Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.
Виктор Александров.
Ленсовет 21 созыва. Воспоминания.
На этих страницах представлены извлечения из подаренных мне авторами книг,
в которых изложены воспоминания депутатов о работе и значении
Ленсовета 21 созыва, а также ряд исторических справок. - П.Ц.
Извлечение из книги:
Александров В.С.. Последний председатель. - СПб.: Изд. «Полярная звезда», 2010. - С.34-62.
Кроме участия в официальной встрече с кандидатами в депутаты Ленсовета я практически ничего не делал для своего избрания. Этого просто не требовалось. Меня самого даже пугала популярность, которая была у меня в то время среди населения города.
Меня постоянно останавливали на улицах незнакомые граждане, жали руку и говорили какие-то теплые слова. Немало людей звонили мне по рабочему телефону. Например, было очень приятной неожиданностью, когда позвонила мать бывшего председателя исполкома Ф.Кармазинова, которую я не знал и никогда не видел. Она сказала, что ветераны Кронштадта будут голосовать за мою кандидатуру — они верят в меня и связывают со мной свои надежды.
<. . .>
Страница создана
28 июня 2025.
Исправлена
и дополнена
28 июня 2025.
Page created
on June 28, 2025.
Corrected
and supplemented
on June 28, 2025.
Посмотреть
статистику
посещений
этого сайта
Website visit
statistics.
Statistiques de visite
du site Web.
Website-Besuchs-
statistiken.
В марте 1990 года я стал народным депутатом Ленинградского городского Совета 21-го созыва, высшего органа государственной власти города Ленинграда. Мои друзья радовались и поздравляли меня. Только самый близкий мне человек и самый преданный друг, моя жена Ирина сожалела о моём избрании.
Кроме меня от Кронштадта в Ленсовет были избраны ещё четыре человека. Это заведующий отделением реанимации Кронштадтской больницы Александр Стефанович Смекалов, инженер Кронштадтского завода Владимир Степанович Андреев, начальник гарнизона Александр Викторович Спешилов (от военнослужащих) и начальник ПСМО «Ленгидроэнергоспецстрой» Юрий Константинович Севенард.
В части избрания последнего в этом перечне, тогда имелись определенные сомнения. Он выиграл в «финальном раунде» у другого кандидата, сотрудника подчиненной мне службы ОБХСС Сергея Михеева менее 100 голосов. Как уверял всех Сергей, победу его сопернику «организовала» одна из участковых избирательных комиссий, переложившая из пачки поданных за него бюллетеней в пачку соперника 50 бюллетеней. Но добиться пересчета голосов ему не удалось.
Ю.Севенард посещал Ленсовет крайне редко, видимо, с учётом преобладавших в Ленсовете представителей демократических сил, считал это «пустой» тратой времени. Основным кругом его общения — немногие представители попавшей в городской парламент партийной номенклатуры Ленинграда. На его помощь в решении кронштадтских проблем я никогда не рассчитывал и никогда к нему не обращался.
Особо в нашей маленькой кронштадтской делегации мне хотелось бы выделить Владимира Андреева. Можно сказать, что он был депутатом ещё до своего избрания и остался им даже после сложения полномочий. Абсолютно независимый человек. Он никогда не проходит мимо того, что мешает жизнь простым людям. Уже несколько десятилетий он борется за их права. И многого при этом добивается, неважно, что это: неработающие часы на станции, или баня, не обеспечивающая нормального уровня работы, или военный оркестр, который будит по утрам жителей Кронштадта. Он давно доказал на практике, что заставить бюрократа что-либо сделать может такой же бумажный вал.
Общеизвестно, что значительная часть рабочего времени депутата занимает работа в постоянных и временных депутатских комиссиях. На первой сессии Ленсовета была организована самозапись депутатов в постоянные комиссии. Я, будучи работником милиции, записался для работы в постоянную комиссию по законности и работе правоохранительных органов.
Однако, на этом дело не кончилось. По ряду важнейших комиссий было решено разобраться персонально с каждым желающим и голосованием определить — достоин, ли, он в ней работать, или нет. Конечно, к таким комиссиям была отнесена та, в которую я записался. А из зала уже прозвучало мнение, что сотрудникам милиции в этой комиссии делать нечего. Можно было понять отдельных депутатов, которым немало пришлось натерпеться от сотрудников милиции на митингах оппозиции. И сотрудников милиции, записавшихся в комиссию, стали «вышибать» одного за другим.
Когда подошла моя очередь, я поднялся к стоящему рядом со мной микрофону и сказал:
— Я не буду работать в других комиссиях, а в этой не обойдутся без моих знаний. Я единственный специалист по экономическим преступлениям в нашем депутатском корпусе!
И за меня проголосовало какое-то невероятное количество депутатов! В комиссии я возглавил подкомиссию по социально-экономическим вопросам. Моей основной задачей стала проработка вопросов по оказанию финансовой помощи органам внутренних дел и другим элементам правоохранительной системы за счёт средств городского бюджета Санкт-Петербурга, решение социальных вопросов лиц, которые в этой системе работают.

Фото 1990 года. «Кронштадтская делегация».
Справа налево: Александров В.С., Смекалов А.С., Спешилов А.В. и Андреев В.С.
Когда я впервые приехал в кабинет начальника финансово-планового управления ГУВД И.Жмудикова и объяснил ему цель визита, он мне не сразу поверил:
— Что, Вы, действительно, милиции будете деньги давать?
Всё дело в том, что до этого все свои денежные средства ГУВД Леноблгорисполкомов получало из федерального бюджета, на основе сметы представленной МВД. За годы работы Ленсовета 21 созыва из маленького ручейка вышла мощная финансовая река, которая во многом помогла пережить сотрудникам милиции это смутное время, когда цены росли не по дням, а по часам.
Когда я впервые пришел к руководителю Ленплана, то он мне сказал, что впервые за 17 лет видит здесь депутата Лесовета. Именно в Ленплане я встретил специалистов самой высокой компетенции и эрудиции.
Кроме работы в постоянной комиссии Ленсовета, приходилось немало работать в различных временных депутатских комиссиях, созданных для решения тех или иных конкретных проблем.
Общеизвестно, что, пытаясь повысить эффективность своей работы, а также политический вес Совета (нередко одно без другого не бывает) депутаты решили пригласить для руководства исполнительной и представительной властью Ленинграда наиболее авторитетных земляков, народных депутатов СССР Александра Щелканова и Анатолия Собчака.
По моему глубокому убеждению, это была первая большая ошибка Ленсовета, в первую очередь депутатов, победивших на выборах под знамёнами Ленинградского Народного фронта. Впоследствии Собчак и Щелканов не смогут найти друг с другом как руководители общего языка, начнут конфликтовать. Возможно, этому способствовало то, что оба были рождены под созвездием Льва. Наблюдая их конфликт, мне, также родившемуся под этим Знаком Зодиака, было очень просто их понять, я тоже не умею уступать. Они оба были во многом правы, но у каждого была своя правда, и Ленинград выступал в роли потерпевшего.
Но, обо всём по порядку. Когда А.Щелканов был нами избран председателем Ленгорисполкома, он потребовал, чтобы была создана специальная комиссия для проверки того состояния, в котором он принимает Ленинград от своего предшественника. Комиссию эту называли «комиссией по приему города» или по фамилии своего председателя, депутата О.Гапановича. Это было нечто новое, но безумно интересное, и автор этих строк не мог пройти мимо такого дела. Мне был выдан самый настоящий мандат за порядковым номером «1». Примерно так же выглядели мандаты большевистских комиссаров и других «уполномоченных», показанные нам в кино о революции. На половинке листа формата «А4» подписями председателя комиссии О.Гапановича и первого заместителя председателя Ленгорисполкома А.Большакова, заверенными печатью Ленгорисполкома заверялись мои полномочия, даже присутствовала известная из кино фраза, чтобы организации Ленинграда и его должностные лица оказывали предъявителю своё содействие.
В комиссию входило 40 депутатов, разбитых по направлениям, также привлекались требуемые для оценки деятельности специалисты (эксперты). Направлением, за которое отвечал автор этих строк, стала работа милиции и других контролирующих органов.
На поверку, всё оказалось даже хуже, чем мы предполагали.
По результатам нашей работы, мы, в частности, предложили освободить от должности начальника ГУВД. Предложили на его место лицо, не занимавшее высокой должности (как это было принято в системах, где носят погоны). Им стал заместитель начальника следственного управления Аркадий Крамарев. Несмотря на возражения МВД СССР и Леноблисполкома (ГУВД находилось в «двойном» подчинении города и области), нам удалось позже «продавить» эту кандидатуру.
В милиции наряду с неудовлетворительными результатами деятельности, порой на поверхности лежали самые настоящие нарушения со стороны руководства. Например, когда мы пришли в Управление ГАИ, то столкнулись с тем, что в нарушение приказа МВД и административного законодательства, оно отобрало у своих районных подразделений право рассмотрения нарушений, связанных с употреблением водителями спиртных напитков. Листая регистрационный журнал УГАИ, несложно было заметить, что «нужные» люди — директора и товароведы крупных магазинов, заведующие базами, ограничивались штрафами, а профессиональные водители, за которых ходатайствовали коллективы, сразу же лишались водительских прав. Из этой системы только выпадал всенародно любимый артист, которого систематически штрафовали ... На что начальник УГАИ заметил:
— Он всё равно будет ездить пьяным, но наличие водительского удостоверения его хотя бы чуть-чуть дисциплинирует.
Самая интересная бумага открыто лежала под стеклом на столе у начальника УГАИ, я увидел её сразу, когда за него сел. Им было распоряжение Ленгорисполкома о строительстве второго жилого дома для сотрудников этого управления. Ведь в ГУВД на всех нуждающихся была одна очередь, на неё ставили в порядке большого исключения, когда достаточных оснований для постановки на учёт по улучшения жилищных условий в районном исполкоме по месту жительства не было.
Начальник ГУВД, в своё оправдание позднее сказал, что у сотрудников ГАИ «особые» отношения с руководством Ленинграда. Несложно догадаться, на чём они были построены.
Неважно обстояли дела и в других составляющих «силового» блока. Например, на таможне существовала практика освобождения «нужных» людей от таможенного досмотра по «записочкам». Для «прикрытия штанов» таможенниками был накоплен целых ворох подобных творений, повествующих о падении нравов «номенклатуры» в городе великого Ленина.
Даже в прокуратуре, порой, не утруждали себя надзором за исполнением законодательства. Например, власти города Зеленогорска незаконно выделяли земельные участки в самых «лакомых» местах Карельского перешейка. Когда мы потревожили со своими вопросами соогветствующего прокурора, то он привёл в своё оправданье странный аргумент — они ему свои решения вообще не присылают. Должны слать, но не шлют, не уважают!
А за что было уважать подобных прокуроров?
В общем, эта была самая «весёлая» из всех депутатских комиссий, в которых мне пришлось работать.
В 1990 году в Ленинграде, как и во всей стране, обострилась продовольственная проблема. С 1 декабря 1990 года были введены карточки на основные виды продовольствия. Для оперативного контроля ситуации с обеспечением ленинградцев продуктами питания и оперативного реагирования на её негативные изменения Ленсовет создал временную комиссию по контролю за движением продовольствия. В отличие от постоянной комиссии Ленсовета по продовольствию, которой в то время руководила народный депутат РСФСР Марина Евгеньевна Салье, мы занимались только текущими вопросами, работали в режиме «пожарной» команды.
Несмотря на то, что меня избрали лишь заместителем её председателя, мне пришлось самому организовывать её работу. Всё дело в том, что избранный председателем депутат Николай Михайлович Аржанников являлся одновременно и народным депутатом РСФСР (он был заместителем председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по правам человека). Можно догадаться, где он находился большую часть своего времени. Да я и не думаю, что он смог бы руководить мною; один раз он присутствовал на нашей комиссии и, в основном, только мило мне улыбался. Н.Аржанников до избрания депутатом двух Советов, как и автор этих строк, работал в милиции. Являясь выпускником нашего высшего политического училища МВД, он работал замполитом в одном из территориальных отделений милиции. Вывел на Дворцовую площадь группу милиционеров, чтобы заявить о бесправном положении милиции. За что был уволен из органов внутренних дел и сразу же стал знаменитым на всю страну. В постсоветские годы Николай уехал на постоянное жительство в Германию.
Наша комиссия решала ежедневно десятки вопросов, как белки в колесе крутились три закрепленные за нами машины. Но порой, меня не покидало тревожное ощущение, что проблемы с продовольствием были созданы искусственно. Видимо, кому-то очень хотелось вызвать голод и дискредитировать молодую демократию — Советскую власть.
В магазинах не было соли, а на ленинградском солефасовочном предприятии солью были забиты склады. Даже в холодильниках Ленрыбы, когда я приехал туда с журналистами, холодильники «ломились» от банок с красной икрой. Журналистов я тоже не случайно брал с собой, бюрократы из ленинградского продовольственного комплекса больше всего боялись огласки своего постыдного поведения.
На вопрос, почему не отправляете в реализацию икру, я услышал странный ответ, что на днях у всей икры истёк срок её годности. Пришлось направлять её на исследование в лабораторию СЭС, которая продлила на месяц этот срок и только после этого «замученная» бесчеловечным к ней отношением икра дошла до покупателей.
В порту уже несколько месяцев простаивал «застрявший» там почему-то сухогруз с растворимым бразильским кофе. Видите ли, никто не хотел брать на себя ответственность за большую недостачу, правда, никто не знал, какую именно. Приняли единственное возможное решение — разгрузить корабль и задокументировать количество фактически выгруженного кофе в присутствии двух представителей высшего органа государственной власти Ленинграда. А с бумагой на недостачу как-нибудь позже грузополучатель с грузоотправителем разберутся.
Сам Ленинград напоминал мне, порой, театр абсурда. Начальник станции не мог поставить под разгрузку вагоны с продовольствием, поскольку начальник вокзала предназначенные для этого пакгаузы с подъездными путями стал в аренду кооперативу, который завалил их никому не нужным «барахлом».
Ускорение движения продовольствия однажды чуть не сделало меня героем скандально известной телевизионной передачи «600 секунд». Мне позвонил руководитель таможни и сообщил, что на подходе теплоход, который везёт в Ленинград гуманитарную помощь — рыбу. Он уведомил меня, что как мы с ним договаривались, затягивать приемку гуманитарного груза таможенным досмотром не будут.
Я спустился к председателю Ленгорисполкома А.Щелканову, и он очень быстро организовал развозку рыбы по детским домам и другим детским учреждениям.
И только я успел добраться до помещения, в котором работала наша временная комиссия, как в него вошла М.Салье и начала здорово ругаться. Оказывается, меня обманули, и эта рыба была вовсе не гуманитарная. Более того, по контракту должны были поставить не форель, а более дешевого карпа. Да и отправить попутным российским кораблём. Грузовики с рыбой успели развернуть, но как теперь предъявлять претензии поставщику в арбитраж?
Вечером в программе «600 секунд» Александр Невзоров поведал об очередной неразберихе во властных структурах и неком субъекте, который её организовал. Моя фамилия так и не прозвучала. Возможно, «бригада» А.Невзорова (всегда преследовавшая в своих критических сюжетах вполне определенные политические цели) не могла определить моей политической принадлежности. «Левые» считали меня «правым», а «правые», соответственно «левым». Ну, прямо, как в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». А я не играл в политические игры и единственной моей фракцией был избирательный округ.
Ну, в целом комиссия по контролю за движением работала очень даже неплохо. К нам приезжали за «передовым опытом» коллеги из других городов, в том числе из Моссовета. Российские депутаты делегировали к нам из Москвы западных журналистов, которые пытались разобраться с этой российской проблемой. Так, целый день со мной проработала бригада французского телевидения Антенн-2. Потом они пытались «в качестве» благодарности «всучить» мне бесплатную поездку в Париж. Переводчица сказала, что журналисты не верили, что в нашей стране кто-то будет им помогать совершенно бескорыстно.
<. . .>
Другой временной депутатской комиссией, которой мне пришлось руководить, стала комиссия по выборам судей.
Напомню, что в соответствии с действовавшим на тот момент Законом судей в Ленинграде должны были избирать депутаты Ленсовета. Ещё раньше их, как и народных депутатов местных Советов, избирали прямым голосованием жители Ленинграда.
Также были избирательные округа по выборам народных судей и избирательные бюллетени, в которых значилась единственная фамилия судьи. Соответственно, как и народных депутатов местных Советов «добро» на включение фамилий кандидатов в эти бюллетени давали районные комитеты КПСС, на территории которых они избирались. Те судьи, которых мы должны были утвердить (без учета небольшого числа новых кандидатов) попали на эти должности с «благословения» нашей КПСС.
Для подготовки вопроса на сессию Ленсовета и была избрана вышеуказанная комиссия.
Её председателем был коллега Владимир Фёдорович Миронов. До избрания в Ленсовет он работал заместителем председателя трибунала Ленинградского военного округа, так что с работой судебной системы был знаком не понаслышке.
Мы готовили вопрос очень тщательно. Заблаговременно утвердили на сессии регламент подготовки и выборов судей. Самым тщательным образом с участием председателя Ленгорсуда и начальника управления юстиции рассматривали кандидатуры судей, в первую очередь тех, на работу которых имелись нарекания.
И таких судей было немало. Были судьи, которые не могли организоватъ процесс и допускали волокиту и нарушения процессуальных сроков. Были судьи, которые страдали «склонностью» к обвинительному уклону. Были и такие судьи, которым было не место в таком почётном и важном судейском корпусе Ленинграда.
Например, один судья осудил не того человека. По халатности конвойной службы в зал судебных заседаний доставили соседа обвиняемого, совершившего нетяжкое преступление, опасного преступника. По результатам рассмотрения дела судья ему вынесла наказание, не связанное с лишением свободы. Его отпустили, и опасный преступник бежал. Судья, обязанный начинать дело с установления личности (а в уголовном деле даже паспорт имелся) не заметил, что на скамье подсудимых совершенно посторонний человек. И он его осудил!
Другой судья составил акт на уничтожение дорогой редкой библиотеки. При его проверке выяснилось, что фигурирующие в акте свидетели уничтожения книг, являлись вымышленными лицами.
Главное в работе нашей комиссии было обеспечить принцип презумпции невиновности к самим судьям. Мы так и поступали, трактуя все сомнения в их пользу. Если объективных «отрицательных» данных было не достаточно, мы вносили судью в список рекомендуемых к избранию на сессии.
Но небольшая группа депутатов демократической ориентации сорвала эти выборы, и мы не смогли воспользоваться своим законным правом выбора достойных (отстранения недостойных). Я до сих пор считаю это одной из главных ошибок Санкт-Петербургского городского Совета 21 созыва.
Эти депутаты на глазах изумленных судей затеяли дискуссию о том, что, дескать, все ветви власти должны быть независимы друг от друга. А предстоящие выборы этому противоречат. Я пытался их остановить. Взывал к совести лиц, которые долго молчали обо всём этом ранее, когда мы обсуждали и утверждали регламент выборов судей, приводил другие аргументы. Но большинство депутатского корпуса меня не поддержало. До самого перерыва на обед продолжалась дискуссия, которая окончательно «погубила» данный вопрос и все судьи остались «в подвешенном состоянии».
Во время обеденного перерыва я не пошел на обед и остался с «разгневанными» судьями в зале заседаний Мариинского дворца. От лица депутатского корпуса я принёс судьям свои извинения. Они после небольшого обсуждения, приняли единогласное обращение к Президенту России, чтобы их выборы осуществлял он. Так впоследствии и стали поступать.
Но как можно, находясь в Москве, выбирать судей в Санкт-Петербурге?
Это не министерство обороны, где существует подчиненность и единая система профессиональной аттестации. Ведь все суды независимы друг от друга и даже Кронштадтский районный суд не подчиняется городскому суду Санкт-Петербурга.
Получилось то, о чём я и говорил этим «горе-депутатам», что судьи фактически, назначенные райкомами КПСС получили от демократического Ленсовета карт-бланш на свою бессрочную дальнейшую деятельность. Включая и тех немногих судей, которые этого недостойны. И эти судьи стали сами подбирать себе замену.
Через несколько дней я принёс в кабинет главного редактора городской газеты «Вечерний Ленинград» депутата Ленсовета Валентин Майорова большую статью, которая во всех подробностях описывает эту ошибку Ленсовета. Редактору не понравился размер статьи.
— Я прикинул, что эта статья займет целую полосу (страницу) в газете. Как бы это не было важно, бери ножницы и отрезай от неё любую половину!
В таком «половинчатом» виде жители Ленинграда и смогли прочитать, как мы выбирали и почему не выбрали судей.
И конечно, основным направлением моей деятельности в городском Совете Санкт-Петербурга стала защита интересов жителей Кронштадта. Первым таким «сражением» за избирателей для меня стала судьба нашей дамбы, которая обсуждалась на второй сессии Ленсовета. Наша профильная постоянная комиссия Совета по экологии готовила проект решения, предусматривающий её ликвидацию. Данное решение базировалось на очень крепком фундаменте — депутатам было роздано заключение комиссии А.Яблокова, подписанное семью академиками и членами корреспондентами АН СССР и т.д. Выводы ученых — дамба может погубить всю природу восточной части Финского залива.
За разбор дамбы ратовали такие активные и влиятельные депутаты, как председатель комиссии по экологии Игорь Артемьев (будущий первый вице-губернатор Санкт-Петербурга, будущий руководитель Федеральной антимонопольной службы правительства России) и заместитель председателя Комиссии по экологии Михаил Амосов (будущий кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, будущий руководитель регионального отделения партии «Яблоко» и координатор её фракции в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга).
Мы построили свою линию защиты на основе альтернативного заключения ленинградского научного центра академии наук СССР. В нем говорилось, что дамба лишь усиливает негативное влияние прямого сброса неочищенных промышленных отходов нашими ленинградскими предприятиями. По убеждению автора, этот корень зла и надо было устранять, а не бороться за то, чтобы наши «нечистоты» плыли дальше в Европу.
Я глубоко убеждён, что в те годы наша дамба и вопросы экологии были заложниками политической борьбы, развернувшейся в Ленинграде. Например, в результате этой борьбы «пал» проект Диснейленда, который канадский миллиардер хотел построить в районе поселков Горская и Лисий Нос. Очень многие заработали здесь политические очки на крике о том, что эти развлечения наших детей разрушат экологический баланс Карельского перешейка. Иногда, даже создавалось впечатление, что речь идёт не о детских качелях-каруселях, а о строительстве крупного химического комбината.
По ходу рассмотрения вопроса о нашей дамбе, у автора этих строк возникла идея решить окончательно вопрос с Движением рейсовых автобусов по дамбе. До этого никаких официальных маршрутов здесь не было. Город стал заложником руководителя АТП-24, который в любой момент мог прекратить эти неустойчивые перевозки по нигде не зарегистрированному маршруту. Я выступил на сессии и сравнил дамбу с Дорогой Жизни, связавшей блокадный Ленинград с большой землей. Я призвал Ленсовет принять решение, обязывающее Ленгорисполком, обеспечить устойчивое движение пассажирских автобусов в Кронштадт.
Ко мне подбежали руководители экологической комиссии:
— Что Вы тут творите, если Вас поддержат, то, как мы сможем провести решение, предусматривающее разборку дамбы?
Но, А.Собчак уже ставил вопрос на голосование.
И надо же такому случиться: для положительного решения вопроса не хватает нескольких голосов. Я развернул свою голову и направил «умоляющий» взгляд на председателя Ленсовета.
— Извините, — говорит Собчак, — я хочу нарушить регламент работы Ленсовета! Я тоже депутат от Кронштадта! Давайте, вернёмся на пару минут из «курилок» и проголосуем ещё раз, поможем жителям острова получить устойчивую связь с Ленинградом!
И решение было принято. Правда, придётся обращаться «в рабочем порядке» за помощью к Собчаку ещё раз, чтобы финансовый комитет выделил дополнительные средства на устройство дорогостоящего бордюрного ограждения дамбы из железобетона (чтобы автобусы не могли съехать с дамбы в воду). Финансисты тут «уперлись рогами», с их слов из принятого решения это прямо не следует.
Второй по значимости, среди больших и малых побед, одержанных в высшем органе государственной власти Ленинграда (Санкт-Петербурга), безо всякого сомнения, было решение вопроса о получении постоянных дотаций из городского бюджета на содержание наших обеих морских линий, паромной в город Ломоносов и обслуживаемой теплоходами на подводных крыльях «Метеор» в город Ленинград.
На тот момент имелось заключение юридического комитета Ленсовета, из которого следовало, что выделение дотационных средств из городского бюджета коммерческой структуре (каковой на тот момент являлось Северо-Западное речное пароходство) не совсем «вписывается» в действующее бюджетное законодательство.
Но заключение юридического отдела, о чём заявил его руководитель Дмитрий Козак, не является истиной в последний инстанции и носит рекомендательный характер. Осталось преодолеть сопротивление руководителя финансового комитета, которым на тот момент являлся мой однокурсник по ФинЭку Сергей Медведев.
— Сережа, неужели ты лишишь наших островитян их паромов и «Метеоров»?
И финансовый комитет неожиданно снял все свои возражения.
Осталось, чтобы вопрос получил поддержку коллег-депутатов. И большинство проголосовало «за»!
Хочется поклониться им низко, они всегда помогали нашему маленькому городу под гордым названием Кронштадт. Они понимали, как непросто жить на реальном острове.
<. . .>
Отдельно мне хотелось бы остановиться на проблеме приватизации жилья, как первого этапа, так называемой, реформы жилищно-коммунального сектора экономики, которая до сих пор осуществляется в нашей стране. В этом вопросе я потерпел, может быть и не единственное, но наиболее болезненное для себя поражение.
Сначала хочу объяснить наиболее наивной части читательской аудитории общую схему задуманного процесса. Не секрет, что расходы на текущее содержание и капитальный ремонт жилых зданий значительным бременем лежат на бюджете Санкт-Петербурга. И совсем не важно, как этот бюджет называется — городской или консолидированный. В последнем случае, к общегородским затратам на капитальный ремонт добавляются расходы на текущее содержание, финансируемые из бюджетов районов.
Весь смысл реформы сводится к тому, чтобы эти расходы превратить в доходы. Для этого сначала жителям навязывается идея сплошной приватизации квартир, в которых они проживают. Затем этих новоявленных собственников «сплачивают» в товарищества собственников жилья (ТСЖ). И эти ТСЖ сами, безо всяких ГУЖ и ПPЭО будут обязаны эксплуатировать и ремонтировать своё собственное жильё. Соответственно, прекращается всякое государственное дотирование жилого сектора. В самом деле, не будете же вы требовать бюджетные средства на ремонт личной дачи? На последнем этапе стоимость жилья (заниженная в БТИ) приводится в соответствие с рыночной стоимостью, повышается и чисто символическая ставка налога на недвижимость. В итоге — жилищный сектор вместо расходов начинает приносить ощутимые доходы.
Когда Санкт-Петербургский городской Совет, пытаясь стать «пионером» приватизации жилья в России, «помчался» создавать для этого правовую базу, автор этих строк начал прилагать все усилия к противодействию данному процессу. Сначала на заседании своей постоянной комиссии по законности и работе правоохранительных органов, куда председатель постоянной депутатской комиссии по жилищной политике Николай Николаевич Журавский принес для обсуждения проекты соответствующих документов, а потом и на сессии Совета.
И поначалу успехи были. Сначала моя «родная» комиссия, а потом и вся сессия отправили этот пакет документов на «доработку». Я радовался, как ребёнок, тому, что мои первые «торпеды» попали в цель и «вражеский крейсер» пошел ко дну.
Теперь самое время объяснить читателям свою позицию.
Первая и, главная причина, по которой я в начале 90-х годов выступал против приватизации жилья, это моё глубокое убеждение в том, что в условиях недееспособности милиции и всей правоохранительной системы, она приведёт к массовому убийству жителей России. В первую голову, пенсионеров и одиноких. Я говорил на своей комиссии, что появится новая, наиболее жестокая, жилищная мафия, которую некому остановить.
Но жизнь, к сожалению, даже превзошла мои неутешительные прогнозы. Уже через небольшой временной период после начала приватизации жилья я сидел на милицейском совещании, где нам зачитывали оперативную ориентировку по этой теме, из которой следовало, что в лесах Подмосковья уже закопано более 3 тысяч убитых из-за квартир москвичей. А сколько их, на самом деле, там закопали? А сколько всего — сотни тысяч или миллионы граждан были лишены жизни на первом этапе жилищной реформы?
И не мы ли помогли породить ту мощную организованную преступность, которая взяла страну «за горло» и продолжает до настоящего времени «захватывать» успешные предпринимательские структуры, не давая развиваться нашей экономике?
Второй причиной является пресловутая практика «цивилизованных стран», ну куда же без неё? В США, Германии, Финляндии и других странах бедная часть населения (к которой по их стандартам должно относится абсолютное большинство населения России) проживает в муниципальном жилом фонде, финансируемом из бюджета, и ни у кого не возникает мысль его приватизировать. Ведь жильё это одна из главных потребностей человека. Для того и существует бюджет, чтобы перераспределять национальный доход. Это одна из его главных функций.
Так учил нас в ФинЭке один из основоположников советской финансовой науки, наш самый «добрый старичок» профессор А.М.Александров. Между прочим, он был официальным консультантом ЮНЕСКО по финансовому праву. Помню, он рассказывал, как его хотели «шлёпнуть» большевики, когда молодого и перспективного преподавателя царской финансовой академии заставили обучать их, вчерашних рабочих и матросов, а ныне руководителей банков, основам финансовой науки.
— Они спросили меня, будут ли твои финансы работать, когда товарищ Ленин поедет из Петрограда в Москву? Увидев робкий кивок моей головы, они со словами «Контра!» потащили меня во двор.
Сплошная приватизация жилья чем-то напомнила мне по своим методам коллективизацию в деревне, которую проводили большевики в начале тридцатых годов. Плакат в жилищной службе взывал ко мне «Приватизируй квартиру, и ты станешь владельцем не только своих квадратных метров, но и колясочной у подъезда, а также кладовки для мётел дворника!» Да не нужна мне эта кладовка для мётел!
Возвращаясь к моим депутатским будням тех лет, замечу, что радовался я недолго. И вот уже Верховный Совет России принимает Закон «О приватизации жилого фонда».
Наши депутаты теперь и слушать меня не хотели, они летели вперёд, «закусив удила», приняв соответствующий пакет документов.
<. . .>
Хочу вспомнить ещё об одном событии того времени. В июне 1991 года я покинул ряды КПСС. Заплатив членские взносы, я написал заявление, что не могу оставаться в её рядах, и сдал партийный билет.
В условиях реальной многопартийности работники правоохранительных органов и военнослужащие не должны состоять в каких-либо партиях. Мы рассматривали данный вопрос на постоянной комиссии по вопросам законности и работы право охранительных органов. Почти единогласно приняли соответствующую рекомендацию работникам правоохранительных органов.
После сдачи партийного билета ко мне в милицейский служебный кабинет зашел «проходивший мимо» сотрудник Кронштадтского РК КПСС. Он спросил меня, почему я покинул партию. Не помню по какой причине, но у меня в то время сложилось впечатление, что этот факт как-то хотели обыграть в газете и использовать против меня. Я не стал ему ничего говорить про решение своей постоянной комиссии, просто сказал, что вступая в КПСС, мотивировал это (так оно и было указано в заявлении) желанием быть в передовых рядах нашего общества. Партия отстала от передовых рядов, а я по-прежнему желаю в них находиться.
<. . .>
Хочется немного рассказать о своих встречах с первым мэром Ленинграда Анатолием Собчаком. Наше знакомство с ним состоялось в сквере у кронштадтского универмага «Гостиный Двор», когда он обвинил меня в его «шельмовании».
По приходу в Ленсовет, моё отношение к нему изменилось. Во многом, этому способствовало то, что его доверенное лицо А.Смекалов стал моим товарищем по совместной работе. Он убеждал меня, что я не разобрался в этом человеке, что мой вывод о его непорядочности абсолютно не верен.
Ещё больше очков «набрал» в моих глазах А.Собчак, когда начал работу Первый Съезд народных депутатов СССР и он, на глазах всех советских телезрителей, заставил себя уважать даже генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева.
Совсем не удивительным, в этой связи, является тот факт, что когда депутаты Ленсовета решили обратиться к А.Собчаку, с просьбой баллотироваться в депутаты Ленсовета и стать его председателем, тринадцатой подписью под этим обращением стала подпись автора этих строк.
Когда А.Собчак возглавил Ленсовет, то мне довелось довольно часто сталкиваться и общаться с ним в здании Мариинского Дворца и даже в его шикарном кабинете.
К официальным встречам, я могу отнести только те встречи, которые у нас были в его скромном кабинете в стенах Смольного. Я никогда не договаривался о встрече, руководствуясь известной поговоркой: если хочешь, чтобы тебе отказали, позвони по телефону! И ни разу А.Собчак не отказался меня принять. Каждый раз его секретарь или помощник говорили мне: ждите, он примет депутата от Кронштадта (не просто депутата, а председателя Кронштадтского райсовета!) в любом случае. Каждый раз меня пугал измученный вид мэра, его ошалелые «расползающиеся» глаза.
Примечание.
Анатолий Собчак был от природы немного косоват, поэтому собеседнику нередко казалось, что мэр Ленинграда отводит глаза, смотрит мимо него, что взгляд его нетерпеливо «бегает». Это производило скверное впечатление на собеседников. На телеэкране этот физический недостаток А.А.Собчака был незаметен. — П.Ц.
За время своего руководства Кронштадтским райсоветом я ездил на прием к мэру Санкт-Петербурга в Смольный три раза. Я накапливал к этим встречам самые важные для Кронштадта вопросы, в основном связанные со значительными финансовыми затратами.
Но наибольшее время я отнял у него, когда во время третьего, последнего визита, привёз ему письмо, подписанное главными и ведущими специалистами Морского завода. Мне его передал главный экономист завода Сумич и просил передать лично в руки мэра. Основная мысль, которую несло это «выстраданное» послание, это то, что военные руководители погубят это знаменитое и перспективное предприятие (Так оно позже и вышло!). Чтобы реформировать завод, необходимо отделить его от министерства обороны.
А.Собчак выказал «живой» интерес к теме письма, и мы долго его обсуждали. Письмо А.А.Собчак оставил у себя, обещав безоговорочную поддержку в Москве. В связи с известными последующими событиями мне не удалось более встретиться с А.Собчаком и выяснить что-либо о судьбе того обращения.
По прошествии времени я хочу заметить, что А.Собчак, в конце концов, не оправдал моих надежд. На него, я в первую очередь возлагаю ответственность за «губительные» для нашего города конфликты с Ленсоветом и председателем Ленгорисполкома А.Щелкановым. Как и у Б.Ельцина, являвшегося лидером демократических сил России, за словами о приверженности идеалам демократии у Собчака пряталась устойчивая тяга к авторитаризму.
Ещё раз хочу коснуться вопроса о том, как А.Собчак «вернул» нашему городу его историческое название. Несмотря на ряд разъяснений и опровержений в печати, это деяние продолжают называть его главным достижением.
Я отчётливо помню, как сессия Ленсовета принимала решение о проведении референдума (опроса населения) о возвращении городу его исторического имени. А.Собчак (тогда ещё Председатель Ленсовета) был единственным явным оппонентом этого решения (не считая тех «невидимых» мне депутатов, которые нажимали кнопки «против»). Он мотивировал это несвоевременностью вопроса и значительными дополнительными затратами средств, которых у нас, как всегда, не было.
Если бы Вы сами видели его реакцию, как он при этом «морщился», то никогда бы не отнесли его даже к легким сторонникам возвращения Санкт-Петербургу его родного имени!
Позиция автора данных строк здесь всегда была одна и та же. Один раз, мне пришлось даже озвучить её вслух. В тот раз меня пригласили в читальный зал районной библиотеки местные кронштадтские краеведы. Они «насочиняли» новых красивых морских названий нашим улицам, типа «улица Адмирала Нахимова». Не знаю, кто им поручил этот вопрос. Возможно, местная администрация (я заметил присутствовавшего здесь же заместителя её главы В.Никитина). Мои возражения были предельно кратки. Чтобы назвать ребенка, надо его родить! Чтобы назвать улицу, надо её построить!
<. . .>
Одним из заключительных действий нашего городского Совета была оценка сентябрьских и октябрьских событий 1993 года. Тут мнения депутатов, даже входивших в демократическое большинство Ленсовета, разделились диаметральным образом. Большинство демократически настроенных депутатов поддержало незаконные действия президента РФ Б.Ельцина. По примеру своих оппонентов-коммунистов, они поставили сомнительную целесообразность над Законом. Из кронштадтских депутатов незаконные действия Б.Ельцина осудил только депутат по 206 избирательному округу В.Александров. Я выступил на сессии и подписал два обращения от имени депутатов Санкт-Петербургского горсовета, которые не были приняты Советом по вышеуказанной причине. Я далеко не в первый раз остался в группе меньшинства.
Возможно, эту книжку будет читать молодой читатель, который смутно представляет, о каких событиях идет речь, в чем их суть.
Борис Ельцин своим президентским Указом от 21 сентября 1993 года №1400 распустил впервые избранный демократическим путем российский Парламент, тот самый который сначала в 1990 году избрал Ельцина своим председателем (до момента проведения выборов президента РФ) и затем в 1991 году ввел пост Президента России.
Парламент не подчинился незаконному решению Б.Ельцина. В соответствии с действовавшей на тот момент Конституцией России подобного права у Президента просто не было. Согласно статье 121 Конституции и статье 6 российского Закона «О президенте РСФСР» полномочия Президента не могли быть использованы для роспуска либо приостановления деятельности законно избранных органов государственной власти.
Конституционный суд России под председательством своего руководителя В.Зорькина рассмотрел 22 сентября 1993 года этот Указ Президента и признал его незаконным. Одновременно, высший судебный орган, на который возложено рассмотрения конституционных проблем законодательства, установил наличие оснований для отрешения Президента от должности.
После этого этот судебный орган надолго прекратил свою работу. Со слов москвичей, он был отключен от коммуникаций, финансирование его прекратили, а самого В.Зорькина журналисты стали обвинять в наличии президентских амбиций. Позже, 6 октября 1993 года он был вынужден подать в отставку с поста председателя Конституционного Суда (спустя 10 лет в начале 2003 года судьи КС вновь окажут ему доверие и изберут его повторно на этот высокий пост).
Так началось противостояние Президента и Парламента, закончившееся кровопролитием.
Российский президент пошел далеко и совершил то, на что даже не решились в августе 1991 года Янаев и Компания. По дворцу Советов, в котором работал российский парламент, начали стрелять из танковых орудий будущие герои России. Как мне рассказывали очевидцы этих событий, стрельбу вели кумулятивными снарядами. При их попадании в стены у защитников парламента разлетались мозги по противоположной стороне помещения.
«Восхищенные» москвичи, как в неком заокеанском боевике, наблюдали за разворачивающейся на их глазах драмой с ближайшего моста и набережной. Они видели ползущие к мосту танки и бегущих с автоматами солдат. Они видели, как белый дым пополз из окон здания Дворца Советов. Такой же белый дым полз из президентского дворца Сальвадора Альенде, когда его штурмовали солдаты Пиночета в далёком южноамериканском государстве Чили. И опять американская компания CNN вела прямой репортаж с места главных российских событий на весь мир.
Так, была расстреляна Советская власть на российском уровне. Руководители Парламента и ряд других народных депутатов высшего органа государственной власти России были арестованы и помещены в тюрьму, которую москвичи называют «Матросской тишиной». Их, как и несчастных кронштадтцев в марте 1921 года, объявили опасными преступниками — заговорщиками.
Позже будет объявлено о достижении некого примирительного соглашения. Оно состояло в том, что арестованные не будут приданы суду и будут амнистированы (прощены!) президентом РФ Б.Ельциным, в свою очередь накладывался запрет на проведение депутатского расследования октябрьских событий в Москве.
Это мне сразу же напомнило образец «добровольного» соглашения между волками и овцами, помещенный в одном из юмористических журналов:
«Мы, волки, обязуемся, не есть овечьей травы; за что мы, овцы, обязуемся обеспечивать волков мясом».
И всё было бы «ничего», но один из «заговорщиков», народный депутат России Варенников отказался выходить из тюрьмы. Он, видите ли, защищал не только российский парламент, но в его лице всю нашу Родину. Он категорически отказался принять амнистию, поскольку эта юридическая процедура применяется только к преступникам. Он себя таковым не считал и стал требовать, чтобы его судили.
Этот персонаж истории Отечества заслуживает, чтобы его знала наша молодёжь. Кто такой этот непокорный депутат Варенников, не желавший себя признать заговорщиком?
Герой Советского Союза генерал Валентин Иванович Варенников отличился в годы Великой Отечественной войны, участвовал во всех крупнейших сражениях с фашистами, начиная со Сталинградской битвы, которую он начал молодым офицером. Был трижды ранен и закончил войну в должности командира полка, который штурмом взял Рейхстаг в Берлине 2 мая 1945 года.
Именно ему доверили на историческом военном параде Победы в Москве 24 июня 1945 года пронести по брусчатке Красной площади знамя Победы, поднятое над куполом Рейхстага — символа фашистской Германии. Военная коллегия Верховного Суда России полностью оправдала генерала, не найдя в его действиях каких-либо признаков преступления. Но Генеральная прокуратура под давлением первого лица государства опротестовала оправдательный приговор. Состоялся ещё один суд в составе Президиума Верховного Суда России. И Варенников был оправдан повторно.
В 1995 году Варенников был избран депутатом Государственной Думы, переизбран в 1999 и 2003 годах. В 1997 году его избрали президентом российской ассоциации Героев, общественной организации объединяющей героев Советского Союза, героев России и кавалеров ордена Славы. Тем самым, наши настоящие герои дали вслед за Конституционным и Верховным Судом России свою оценку трагическим событиям в Москве, которые произошли в октябре 1993 года, событиям, изменившим весь ход истории России.
В 2009 году Валентин Варенников умер. В начале того года ветеран лежал на излечении в клинике военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Здесь военные хирурги делали ему сложную операцию, пытаясь спасти жизнь Героя. Обслуживающая его медсестра, хорошая знакомая моей дочери, рассказывала, как приходили к нему самые простые жители нашего города, приносили букеты цветов и говорили слова признательности и поддержки.
Простите меня, генерал, но я не успел принести Вам свои цветы!
21 декабря 1993 года наш городской Совет, высший орган государственной власти Санкт-Петербурга, впервые избранный демократическим путём, был распущен Указом №2252 всенародно избранного Президента России Б.Ельцина.
Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.
Главы из книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя»

Депутат Ленсовета Павел Цыплёнков
в день 35-летия с начала работы Ленсовета-XXI
представляет книгу «Ленсовет-XXI 35 лет спустя».
Торжественное юбилейное собрание депутатов Ленсовета,
посвящённое 35-летию со дня начала работы Ленсовета 21-го созыва.
Санкт-Петербург, Мариинский дворец. 3 апреля 2025 года.
- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва
- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.
- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение
- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)
- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля
- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.
- П.В.Цыплёнков. Освободить человека
- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей
- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу
- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).


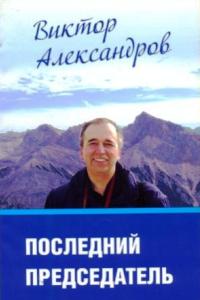
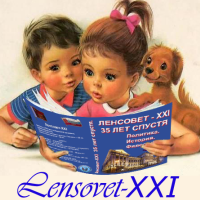



Поделиться с друзьями: