Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.
Доклад на юбилейном собрании 5 апреля 2010 года.
Сведения об авторе.
Оргкомитет поручил мне выступить перед вами с сообщением на тему «20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге».
Ну что же, давайте поговорим о «развитии» парламентаризма.
Своё выступление Александр Николаевич закончил утверждением о том, что мы все с вами уже живём в правовом демократическом государстве. Я сейчас попробую подвергнуть сомнению этот тезис. И посмотрим, что у меня из этого получится.
(Аплодисменты)
Итак, развитие парламентаризма! Казалось бы, всем присутствующим совершенно понятно, о чем будет идти речь, а между тем каждое слово в названии выступления требует пояснения, иначе я буду говорить слова, а у вас будут рождаться какие-то образы, совсем не те, которые я хотел бы вызвать своим выступлением.
Обращаю ваше внимание, даже такое простое и примитивное словосочетание «Двадцать лет парламентаризма в Санкт-Петербурге» сегодня оказывается неточным. Задумайтесь!
Что уж говорить о таких непростых понятиях как «развитие» и «парламентаризм». Начнем разбираться с «развития». Как мне представляется, развитие — это обязательно увеличение по какому-либо параметру. Например, развитие экономики это увеличение ВВП. Развитие ребенка — увеличение его веса, роста, ума. Но, если задумываться, окажется, что далеко не всякое увеличение мы согласимся назвать развитием. Предположим, ребенок стал выкуривать в день не пять сигарет, а десять. Согласимся ли мы такое увеличение назвать «развитием»?
(Смех и шум в зале)

Вряд ли! Следовательно, понятие «развитие» — оно, безусловно, субъективно. Говорить о развитии, не сказав, с точки зрения кого, каких понятий, каких идей мы говорим о развитии, это значит — ничего не сказать.
Говорю сразу, заранее, чтобы никто потом не удивлялся, я буду говорить о развитии парламентаризма с точки зрения человека или людей, для которых парламентаризм является важной ценностью, для которых парламентаризм, безусловно, — положительное понятие.
Я убеждён, далеко не все люди являются такими, с точки зрения которых, я собираюсь вам сегодня что-то говорить. К сожалению, у парламентаризма много врагов, и именно поэтому вы увидите, какое развитие претерпел за эти двадцать лет парламентаризм.
Страница создана
3 апреля 2025.
Исправлена
и дополнена
30 апреля 2025.
Page created
on April 3, 2025.
Corrected
and supplemented
on April 30, 2025.
Итак, на ближайшие десять-пятнадцать минут я предлагаю вам вместе со мной считать, что развитие — это желательное с определённой точки зрения увеличение заданного параметра. Желательное — с определённой точки зрения. В нашем случае, с точки зрения тех, для кого парламентаризм — абсолютно положительная величина.
Важным моментом в данном случае становится, а про какой параметр мы будем говорить, говоря о развитии. Этот параметр нам ещё предстоит «родить»!
Поскольку нет общепризнанного параметра, по которому можно было бы оценить развитие парламентаризма. К сожалению, сегодня средства массовой информации предоставляют трибуну в основном тем, для кого парламентаризм вовсе не является положительным явлением. Точка зрения таких людей обществу хорошо сегодня известна. А наша точка зрения, точка зрения тех, для кого парламентаризм является безусловной ценностью, к сожалению, известна существенно меньше. Я попробую до вас довести такую точку зрения. Я больше скажу: помните слово «демократ» двадцать лет назад? На каждом флаге, на каждом транспаранте было написано «демократ»! Сегодня это слово скорее ругательное, чем положительное, как это было двадцать лет назад. Тем не менее, парламентаризм и демократия связаны неразрывно: нельзя говорить о парламентаризме, не опираясь на демократию. Попробуем, опираясь на демократию, сами здесь и сейчас сформировать тот параметр, по которому хотелось бы нам оценивать развитие парламентаризма.
Предлагаю вам логическую цепочку. Попробуйте за ней уследить. Давайте попробуем все формы правления расположить в некую линию закономерно. У нас получится примерно следующее: тирания-монархия, аристократия-олигархия, и, наконец, демократия-полития. По какому принципу мы расположили эти формы правления? От тирании до демократии количество людей, управляющих государством, закономерно увеличивается. Но, обращаю ваше внимание на самое главное, мы с вами не можем придумать никакой формы правления, которую можно было бы расположить закономерно следующей в этом ряду. Следовательно, определение рождается само собой: демократия — это такая форма правления, при которой количество людей, управляющих государством, максимально. Но это такое нейтральное, академическое определение, и я бы хотел из этого определения родить некий эмоционально окрашенный тезис. И тогда у меня получается примерно следующее: чем большее число людей управляет государством, тем лучше! Такова наша, сторонников парламентаризма, точка зрения. От неё и дальше будем отталкиваться. Обычно, с такой точкой зрения открыто никто не спорит. Себе дороже!
Но я уверен, что у этой точки зрения сторонников существенно меньше, чем количество избирателей в нашей стране. Более того, среди власть предержащих сторонников этой точки зрения я, честно говоря, найти не могу. Может быть, кто-нибудь с фонарём и помог бы мне это сделать, но у меня не получается. Именно это — основное положение, в соответствии с которым, Александр Николаевич, демократии у нас нет. Как и правового государства. Пока…
Демократия, как известно, бывает двух разных видов: непосредственная и представительная демократия. Представительная демократия и есть милый нашему сердцу, я надеюсь, и вашему, парламентаризм. Если мы так определяем парламентаризм, и наш эмоционально окрашенный тезис можно слегка трансформировать, и тогда получится примерно следующее. Чем большее количество людей имеет своих представителей в каждом представительном органе, тем лучше. И с этим тезисом открыто вряд ли кто-нибудь будет спорить.
Вроде бы у нас получился параметр, по которому можно оценивать демократию, парламентаризм, его развитие. Так ли это?
Если чуть-чуть задуматься, у нас, правда, на это нет времени, а я задумался, получается, что недостаточно этого! Давайте представим себе несбыточную картину. Все сто миллионов избирателей нашей страны имеют своего представителя в Государственной Думе! Нам, сторонникам парламентаризма разве этого достаточно для того, чтобы считать, что парламентаризм в нашей стране победил? Опять-таки если чуть-чуть подумать, то получается, что нет. Если значительная часть вопросов, регулирующих общественную жизнь, решаются не в парламенте, а в каком-то другом месте, грош — цена такому парламенту, как бы демократически он ни был избран. Отсюда получается, что развитие парламентаризма мы можем оценить только по такому сложному комплексному двухсоставному параметру, который состоит из двух частей. Первая часть — доля избирателей, имеющих своих представителей в каждом представительном органе власти. И второе, доля тех вопросов, регулирующих общественную жизнь, которые решаются именно в этом представительном органе власти. Если два этих параметра перемножить, мы получаем комплексный параметр, по которому можно было бы попробовать здесь и сейчас оценить двадцатилетнее развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге.
Первую картинку (Рис.1. Динамика компетенции представительной власти
в Санкт-Петербурге — доля вопросов,
решаемых непосредственно представительным органом власти города
в условном диапазоне от нуля до единицы - ось ординат)
на экран, пожалуйста.
|
По горизонтальной оси, как видите, отложены годы: девяностый (наш родной!), двухтысячный, две тысячи десятый. По вертикальной оси от нуля до единицы отложена в данном случае доля тех вопросов, которые решает представительный орган власти в доле всех вопросов, регулирующих общественную жизнь. Если мы посмотрим влево от девяностого года, то видим такую полосочку горизонтальную, которая едва-едва оторвалась от горизонтальной оси. Это период до нас, до Ленсовета-21. Эту полосочку можно продолжать на десятки лет (до 1939 года, когда начал работать Ленсовет в виде органа представительной власти Ленинграда), она будет также близка к нулю, к горизонтальной оси. Почему? Все Ленсоветы двадцати созывов, за исключением двадцать первого, принимали фактически два решения в год: утверждали план социально-экономического развития и тот самый бюджет на одной страничке, о котором уже говорил Александр Николаевич (А.Н. Беляев. — Прим. ред.). Вот такова доля этих вопросов. |
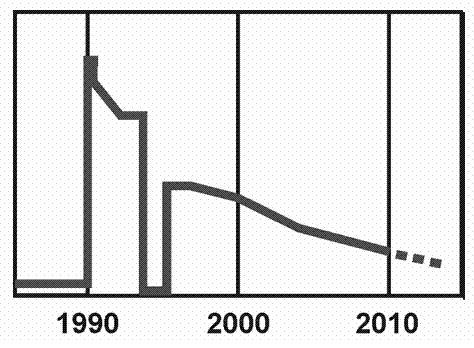 |
Наступает девяностый год. Резкий скачок! Ленсовет XXI созыва, по большому счёту, мог принять к своему рассмотрению — про Верховный Совет это было вообще в Конституции записано прямо, — но по факту и Ленсовет мог принять к своему рассмотрению любой вопрос. Другое дело, что мы с вами этого не делали. Поэтому я оценил примерно в 80 процентов те вопросы, которые мы решали. У нас просто руки не доходили, сил не было, и так далее.
А дальше резкое падение. Это мы избрали Исполком. То есть был период, когда Исполкома не было, примерно три месяца, потом мы избрали Исполком, потому такая кривая линия идёт. Потихонечку сначала мы добровольно передавали Исполкому Щелканова[1] на рассмотрение те или иные вопросы, которые мы могли бы и сами рассматривать. Потом был избран мэр, который сам потихонечку начал перетягивать к себе вопросы. А потом излом и горизонтальная линия. В этот момент был принят Закон о краевом и областном Совете, краевой и областной администрации. И до самого нашего разгона уровень, доля тех вопросов, регулирующих общественную жизнь, которые принимались в Ленсовете, была примерно вот такая. Я её так оцениваю, это — моя экспертная оценка, вы можете её туда-сюда подвинуть, но, я думаю, не очень сильно. Потом декабрь девяносто третьего года. Количество вопросов, решаемых представительным органом власти упало до нуля, и целый год такая ситуация в нашем городе оставалась. Всё решал мэр.
Потом — выборы первого созыва Законодательного Собрания (ЗС). ЗС через год после нашего разгона собралось, но Закон о краевом и областном Совете уже не действовал, и количество вопросов, которые могло принять к своему рассмотрению ЗС, почти в два раза, по моей оценке, упало по сравнению с тем, что было у нас в девяностом году. Потом потихоньку, не шатко не валко, один Губернатор, второй Губернатор, третий Губернатор отнимают у ЗС такие вопросы. Но дальше, судя по всему, отнимать больше нечего. Я вот так оцениваю на сегодняшний день долю тех вопросов, которые регулирует ЗС (около 20 процентов).
Можно что-нибудь неправильное подумать про те вопросы, о которых я говорю. Например, все нормальные горожане ездят на метро. Какая-то часть не ездит, такие есть, но они — ненормальные. Следовательно, вопрос, регулирующий пользование нами метрополитеном, это — вопрос, имеющий общественное значение. С моей точки зрения, вопрос правил пользования нами метрополитеном, это вопрос представительного органа власти. Сегодня эти правила утверждены даже не Губернатором, даже не правительством, а комитетом по транспорту. Вот о чём я говорю, когда говорю о вопросе, регулирующем общественную жизнь.
[1] Щелканов, Александр Александрович, 1939 г.р., капитан 1 ранга, народный депутат СССР, председатель исполкома Ленсовета (1990-1991), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (1994-2002).
Следующую картинку (Рис. 2. Доля граждан, имеющих своего представителя
в представительных органах власти Санкт-Петербурга), пожалуйста.
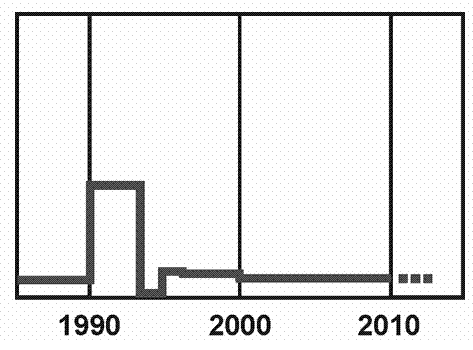
Теперь переходим ко второй составляющей нашего комплексного критерия. Это доля граждан, имеющих своего представителя в представительных органах власти. Опять-таки до девяностого года эта полоска не совпадает с горизонтальной осью только потому, что, выбирая одного из одного, я думаю, какие-то избиратели случайно получали всё-таки своего представителя. Были и нормальные люди среди депутатов Ленсоветов двадцатого, девятнадцатого и так далее созывов. Но это было не закономерное, а случайное явление.
Потом девяностый год. Выборы нас. Обращаю ваше внимание: невеликий скачок, вовсе не до единицы. По разным оценкам (Александр Николаевич считает, что один из четырёх, я считаю, что, примерно, один из трёх) тогда - в девяностом году - каждый из трёх избирателей получил-таки своего представителя.
Для первого опыта выборов демократических — совсем неплохой результат. И если бы мы продолжили эту систему и продолжили совершенствовать выборы депутатов представительных органов в нашем городе, было бы сначала тридцать процентов, потом сорок, потом пятьдесят и так далее. Если бы выборы первого ЗС прошли по тому положению о выборах, которое мы с вами приняли двадцатого декабря 1993 года, мы бы не получили той картины, которая после скачка на этой картинке получается. Правильно сказал Александр Николаевич, это легко считается, один из десяти избирателей нашего города получил своих представителей в ЗС первого созыва. А дальше так по наклонной плоскости потихоньку-полегоньку на сегодняшний день примерно один из двенадцати-четырнадцати избирателей нашего города имеют своего представителя в представительном органе власти.
Я вовсе не хочу нас с вами идеализировать. Дело не в том, что депутаты Ленсовета XXI созыва были плохими, хорошими, такими-сякими. Я говорю о принципе. Принцип формирования представительного органа на 90 процентов решает проблему уровня парламентаризма. Среди нас были ведь и противники демократии. Я вам честно скажу: мне сегодня стыдно, что главный душитель демократии и парламентаризма в нашей стране — депутат Ленсовета XXI созыва.
(Аплодисменты)
Третью картинку (Рис. 3. Развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге.
Интегральная оценка по двум параметрам), пожалуйста.

А вот и комплексный результат. Если на первой и второй картинке что-то там отрывалось от горизонтальной оси, то, когда мы перемножили два этих параметра, получилось то, что получилось. Развитие парламентаризма в нашей стране вот таково. Сегодня в 2010 году парламентаризм исчезающе близко приближается к горизонтальной оси, к нулю.
Для нас, сторонников парламентаризма, для тех, кто считает парламентаризм важной и существенной ценностью, это, конечно, — очень плохо! Но закончу своё выступление на позитивной ноте. С другой-то стороны, это — хорошо!
Ведь мы, сторонники парламентаризма, убеждены, что качество жизни прямо коррелирует с уровнем парламентаризма в той или иной стране.
Чем выше уровень парламентаризма, тем выше уровень жизни.
Я предлагаю вам посмотреть график на этой картинке по состоянию на 2010 год, и представьте, во сколько раз лучше мы с вами ещё можем жить!
Спасибо!
(Аплодисменты)
Другие книги и статьи С.Н.Егорова на этом сайте
- С.Н.Егоров. Кому не выгодны фракции. — «Смена», 6 июня 1990 года.
- С.Н.Егоров. Готова ли Россия к демократии. Статья 2012 года в газете «Мысль-21»
- С.Н.Егоров. Актуальная повестка дня демократического движения России.
- С.Н.Егоров. Курица виновата в тесноте.
- С.Н.Егоров. Благополучие власти и равнодушие интеллигенции.
- С.Н.Егоров. A look back at the USSR.
- С.Н.Егоров. Глупость или предательство?
- С.Н.Егоров. Фракция «На платформе ЛНФ». — СПб.: Своё издательство, 2019. — 56 с., ил.
- С.Н.Егоров, П.В.Цыплёнков. Векторная теория социальной революции. — СПб, б/и, 2017. — 400 с., 38 ил.
Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.
Главы из книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя»

Депутат Ленсовета Павел Цыплёнков
представляет свою новую книгу «Ленсовет-XXI 35 лет спустя».
Торжественное юбилейное собрание депутатов Ленсовета,
посвящённое 35-летию со дня начала работы Ленсовета 21-го созыва.
Санкт-Петербург, Мариинский дворец. 3 апреля 2025 года.
- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва
- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.
- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение
- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)
- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля
- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.
- П.В.Цыплёнков. Освободить человека
- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей
- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу
- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).






Поделиться с друзьями: