Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Депутаты. Демократия. Либерализм. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.
Георгий Сергеевич Васюточкин.
Немного о себе в Ленсовете.
На этих страницах представлены извлечения из книг,
подаренных мне авторами, в которых изложены воспоминания депутатов
о работе и значении Ленсовета 21 созыва, а также ряд исторических справок. - П.Ц.
Извлечения из книги:
Васюточкин Г.С. Наперекор или вопреки? - СПб.: Изд. Александра Сазанова, Редакционно-издательская фирма «Роза мира«, 2009. - С.136-165.
Будучи непримиримым неприятелем коммунизма — едва ли не с пеленок — я не был ни рыночником, ни либералом. Весь 1989 год, совершенно не предполагая своего выдвижения в народные депутаты, я штудировал работы «отцов » так называемого «муниципального социализма » — Ван-дер-Вельде, Туган-Барановекого и Исая Шрейдера. Монополизм крупного капитала на смену коммунистической плановой экономике казался мне совершенно неприемлемой альтернативой. Из прочитанного я узнавал, как брали за горло петербургский люд владельцы частной водопроводной станции, частной конки, частных земельных угодий — развивающийся мегаполис вздохнуть не мог из-за всевластия частного капитала.
В книге М.И.Туган-Барановского «Социальные основы кооперации » меня поразила простая мысль, против которой не находилось возражений: «Кооперация есть одна из форм самозащиты трудящихся классов от натиска капитала!» Она шла совершенно вразрез с практикой кооперативного строительства в конце 1980-х годов: капитализмом в СССР тогда еще и не пахло, а «кооперативы» были просто лавочками для получения прибылей и обналичивания денег. То есть, с точностью до наоборот — они-то и стали первичными ячейками дикого капитализма! Другим инструментом защиты от монополизма — как государственного, так и частнокапиталистического — виделся «муниципальный социализм». О нем рассказывалось в книге М. Курчинского — «Муниципальный социализм» (СПб, 1907 г.). Эта доктрина предусматривала передачу в собственность местного самоуправления городского транспорта, электростанций, газоснабжения, школ и больниц. Муниципалитетам возбранялось продавать и закладывать земли — допускалось лишь право сдачи земель в аренду, И далее — вновь тезисы М.И.Туган-Барановского: «Муниципальное предприятие в интересах населения есть опека последнего сверху. Напротив, кооператив есть самопомощь самого населения. [ ... ] Эгоизм лежит в основе капитализма, альтруизм — социализма; кооперация соединяет эгоизм с альтруизмом в сознании солидарности общего и частного интереса».
И если полный разгром всего, что было связано с политической системой, базировавшейся на коммунистической догматике, мне казался неизбежным, то в хозяйственной сфере я был «постепеновцем». В своей предвыборной программе, напечатанной на машинке «Москва» через полтора интервала — ровно на страничку, я ратовал за разгосударствление (отнюдь не за приватизацию!) собственности, многоукладность экономики при равноправии различных форм собственности — государственной, частной, муниципальной, кооперативной и т.д.
Общественный транспорт и энергообеспечение, реализация городского заказа на промышленную продукцию и услуги, водоснабжение, здравоохранение не должны были, по моему разумению, попасть в руки частновладельцев. Жизнедеятельность городского организма должна обеспечиваться из бюджетных средств, часть которых направляется из государственной казны, а часть — из муниципального бюджета. Меня поражало, что при коммунистах лишь два процента расположенных в городе предприятий работало на нужды города! А под «разгосударствлением» вместо вдруг провозглашенной приватизации я разумел не скоропоспешное создание клана собственников, не раздачу «своим людям» за бесценок государственного имущества, а выделение крупного частного сектора, не простирающегося за твердо очерченные ему сферы деятельности. Отсюда — провозглашение мною тезисов о городском самоуправлении и особом статусе Ленинграда в РСФСР — большем, чем статус областного центра. Естественно, логическим следствием их осуществления должно было стать выделение Ленинграда из Ленинградской области в абсолютно самостоятельную единицу на политической карте России и СССР. Городское самоуправление было темой и моей первой статьи, напечатанной мною уже в ранге депутата в газете «Вечерний Ленинград»: «Самоуправление — это ответственность снизу» (3 мая 1990 г.). Тут подоспела и ставшая знаменитой с первых же дней ее опубликования брошюра А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию» со стержневой идеей местного самоуправления. Неудивительно, что я вошел в состав ленсоветовской комиссии по самоуправлению, государственному строительству и работе Советов и был избран ее секретарем. Здесь не место давать развернутый рассказ о почти четырехгодичной работе нашего, по выражению А.А. Собчака, «самого демократичного в стране Совета» — существует семисотстраничное издание «Автобиография Петербургского горсовета — Ленсовета ХХI созыва» ( «Издательство Александра Сазанова», РИФ «Роза мира», Санкт-Петербург, 2005.) с обстоятельной, написанной С.Н. Егоровым «Хроникой последнего Ленсовета» и мемуарными очерками почти всех работавших в Ленсовете ХХI созыва депутатов.
Страница создана
11 июня 2025.
Исправлена
и дополнена
11 июня 2025.
Page created
on June 11, 2025.
Corrected
and supplemented
on June 11, 2025.
Посмотреть
статистику
посещений
этого сайта
Website visit
statistics.
Statistiques de visite
du site Web.
Website-Besuchs-
statistiken.
С мая 1990-го и по самый последний декабрьский день 1993-ro я исполнял обязанности руководителя Секретариата Сессий Ленсовета, а с февраля 1992-го — в том же амплуа еще и в Малом совете. При выборах в Малый совет — в 1992-м и 1993-м (ротационные перевыборы) в длинном списке кандидатов я дважды оказывался третьим (при 38 проходных номерах). В 1992-м первую тройку составили С.Н. Егоров, Ю.И. Вдовин и я; через год первые две позиции заняли И.Ю. Артемьев и М.И. Пирогов. Приятно бьrть третьим в таких компаниях. Но — это внешние моменты. А вспомнить по существу есть о чем.
Одним из первых, если не самым первым, я выступил в печати против авторитарного образа действий главного на тот момент оппонента коммунистам — профессора А.А. Собчака. Уже в июле 1990-го Анатолий Александрович, возомнивший себя не спикером, а начальником Ленсовета, стал искать пути своего освобождения от регламентных норм, ограничивающих свободу его распорядительных действий. Шестого июля он выступил в «Ленинградской правде» с заявлением: «В нынешней нестабильной обстановке было бы совсем неплохо, чтобы на местах были люди, независимые от муниципальных органов (разрядка моя. — Г.В.), подобно префектам во Франции и губернаторам в США».
Я поработал над материалом, выловил подобные авторитаристские суждения у... К.П.Победоносцева, Великого князя Владимира Кирилловича и Первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Б.В. Гидаспова и свел их с запальчивым высказыванием «главного ленинградского демократа» в статье «Монархический заговор», напечатанной в профсоюзной газете «Единство» (номер от 16-23 июля). Это не прибавило у А.А. Собчака симпатии ко мне, но открытых выпадов в мой адрес он себе не позволял целый год.
Наступил июль 1991-го. Незадолго до этого в России прошли президентские выборы — Президентом стал Б.Н. Ельцин — и выборы мэра Ленинграда (А.А. Собчак с большим преимуществом победил Ю.К. Севенарда). Почувствовав себя совершенно неподконтрольным изрядно мешавшему ему Ленсовету, Анатолий Александрович сразу же возжелал отбросить за ненадобностью демократический Закон о статусе народного депутата и полностью сосредоточить власть в собственных руках.
В программе своей деятельности на посту мэра Санкт-Петербурга Собчак провозглашал: «У него (Ленсовета — Г.В.) должно быть две задачи как у представительного органа: контроль за распределением бюджета, а также подготовка соответствующих правил, положений городского законодательства (чему «соответствующих»? — Г.В.), контроль за их исполнением. Все остальное — не дело Совета».
У Санкт-Петербургской Думы и то полномочий было многократно более — вот она какой обернулась демократия в преломлении профессора-юриста!
Авторитарные побуждения новых вождей, возглавивших органы исполнительной власти на местах, поддерживало и ельцинское окружение в Москве. Глава комитета по законодательству Верховного Совета РСФСР С.М. Шахрай мыслил так же: «Должен ли Совет утверждать структуру городской администрации? Я считаю, что не должен». Восьмого июля на Президиуме ВС РСФСР А.А. Собчак предполагал протащить свою версию перераспределения прав между представительной и исполнительной властями в Ленинграде, и медлить было нельзя. За ночь (с 6-го на 7-е июля) я написал статью, где противозаконность устремлений и Собчака, и Шахрая рассматривалась в проекции на ситуацию с роспуском Думы летом 1906-го года. Ниже — выдержки из моей статьи:
«Реставрация административно-командных начал усилиями вчерашних митинговых демократов уже справедливо заслужила название демократуры.
Идеологический ее базис примитивен — апелляция к так называемому здравому смыслу. Но хорошо известен и мудрый афоризм: здравый смысл всегда равен предрассудкам своего времени. Предрассудок о спасительной сильной руке доволакивается к нам из средневековья [ ... ]. Демократура берет реванш и в верхних этажах власти».
И — приведя выдержку из выступления С.М. Шахрая (см. выше) я — в параллель ей привел ссылку на ... Конституцию РСФСР: «Структура местной Администрации угверждается Советом нapoдных депутатов» (статья 148) — по состоянию на 24 мая 1991 года!
В противовес запальчивому фальцету А.А. Собчака — «все остальное — не дело Совета!» я продолжал:
«… даже не разработка бюджета, даже не распределение, но контроль за распределением. Как будто не существует среди прочих законодательных актов и такой, в частности, статьи Закона о собственности в РСФСР, как статья 23-я, п.3: «Распоряжение и управление муниципальной собственностью осуществляют местные Советы народных депутатов и органы местного самоуправления»!
Налицо — антиконституционная кража определенных прерогатив. Другой мэр — московский, Г.Х. Попов еще полгода назад выступал с проектом, где предусматривалось право мэра — ни больше ни меньше — распускать Моссовет. Ни дать ни взять — да нет, не Бонапартик, а пресловутый господин Марков Второй, издевательски утверждавший (1911 г), что Думу «можно распустить и на час, и через час».
Думские депутаты могли обращать внимание на те или иные упущения властей, но не смели даже создавать думские комиссии по расследованию. Не мечта ли нынешних столичных Мэров?
И вот уж в своей «тронной» речи 25 июня с.г. на IX сессии Ленсовета мэр ленинградский воглашает: «Отныне будет прекращено хождение депутатов по любому вопросу в любой орган власти» (Стенограмма заседания Сессии Ленсовета, стр.59).
(Пикантное напоминание: свою первую мемуарную книжку член Верховною Совета СССР А.А. Собчак озаглавuл ... «Хождение во власть». Анекдотический пример амнезии — что хорошо ДЛЯ меня, ДРУГИМ возбраняется!)
А что же теперь делать с Законом РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР», в статье 23-ей которого сказано: «Народный депутат ... имеет право беспрепятственного посещения всех государственных и общественных органов, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Совета, независимо от их подчиненности, принадлежности, режима секретности и форм собственности»?
Покойный ныне депутат Михаил Иванович Пирогов вечером 6-го июля договорился с главным редактором «Вечернего Ленинграда» Валентином Викторовичем Майоровым, чтобы тот — вопиющее исключение из правил! — не глядя зарезервировал место для моей еще никем не читанной статьи на первой, лицевой полосе номера. Вечером 7-го статья под вызывающим заголовком — «Курская дуга демократии» (8-гo июля 1943 года началась битва на Курской дуге) пошла в набор, а утром — еще не газету, а первую ее полосу (в уменьшенном формате) взяли наши депутаты — являвшиеся одновременно депутатами Съезда РСФСР, улетавшие на вечернее заседание Президиума ВС РСФСР дневным авиарейсом ...
Анатолий Александрович потерпел фиаско. Дальнейшее заслуживает полутора страниц в этой книжке. По возвращении в Ленинград 18-го июля он прибыл в редакцию «Вечернего Ленинграда» (наб. Фонтанки, д.59 ). У некоторых сотрудников редакции были включены диктофоны. Привожу — буква в букву — запись пламенной филиппики вышедшего из себя мэра, и пусть читатель судит по этому без искажений и пропусков воспроизводимому тексту, каково было нам, немолодым, законно избранным петербургским интеллигентам, а среди депутатов были десятки докторов и кандидатов наук, работать с этим трибуном демократии в Зале заседаний Ленсовета.
Вот дословный текст выступления А.А. Собчака:
«Я никаких личных контактов с редакцией «Вечернего Ленинграда» практически не имею, и за все время моей работы в роли Председателя Совета и, тем более, мэра, я не помню, чтобы редакция предложила мне написать статью — максимум, ограничиваясь какими-то интервью ... Так что вопрос взаимопонимания пока еще не стоит на мой взгляд. Нет недовольства — есть просто недоумение по поводу позиции газеты, которая, на мой взгляд, мало чем отличается от позиций в ряде случаев газет «Правда» и «Советская Россия», и с этой точки зрения газета, учредителем которой выступает Ленсовет, могла бы занимать более четкую позицию.
Я вам приведу только один пример, а мог бы приводить практически каждый номер газеты ... Есть у нас один из депутатов историк-дилетант (намёк, вероятно, на этого Г.С.Васюточкина — П.Ц.), который в день, когда решался вопрос в Президиуме Верховного Совета о распределении полномочий, написал вам статью. Статью, в которой сопоставлял Государственную Думу, и как ее разогнали, и как, так сказать, были усечены права законодательной власти, и делал глубокомысленные параллельные сравнения, что-де сейчас происходит то же самое. И все это было опубликовано в этот решающий день под соответствующим соусом, причем ... так ... с массой исторических ошибок — я уж не буду анализировать эту статью детально... Но если редакция имеет по этому поводу определенную позицию, то вы должны были хотя бы элементарную вещь сделать, написать там, что вот — те прямолинейные сопоставления, которые гражданин такой-то или депутат такой-то проводит, они некорректны — хотя бы потому, что в девятьсот одиннадцатом году речь шла о царском самодержавии, режим был совсем другой, и функции законодательной власти были совсем другие и, простите, Ленсовет — это не законодательный орган (?!! — Г.В.). Поэтому нужно, в общем, исходить из совершенно — м-м-м — недопустимости подобных исторических параллелей и анализов, я уж не говорю о том, что совершенно другие условия, и люди не те, и условия не те ...
Ну ладно, ну хотя бы вы, как профессионалы, обязаны были написать, что вот исторически этот гражданин написал не совсем так, потому что ведь граждане, которые в истории не очень здорово разбираются, они могут подумать, что на самом деле все так обстоит ... и вот таких статей, к сожалению, в которых позиция редакции весьма размыта, и дает мне основания полагать, что редакция либо не имеет позиции, либо ее позиция близка к позиции партийной печати, которая клеймит, или подает неверную информацию, они дают мне основания недоумевать по поводу позиции газеты «Вечерний Ленинград» ... »
(Пропускаю два абзаца по поводу другой статьи — депутата М.Е. Салье — и возвращаюсь к критике Анатолия Александровича в мой адрес, так сказать, в досыл)
«Я ведь привел в качестве примера ту статью историка-дилетанта (Ни М.Салье, ни Г.Васюточкин не историки. Они — геологи! Зато супруга А.Собчака Л.Нарусова — историк. Возможно, она и проконсультировала мужа перед его набегом на редакцию газеты. — П.Ц.) потому, что она насквозь — вранье! Потому что там историческое вранье, понимаете! И несопоставимые параллели! Вот для того, чтобы вам показать, что вот в таких случаях редакция обязана писать, что мы не разделяем каких-то положений, или хотели бы напомнить автору, что вот тогда-то были такие-то условия и проводить прямые параллели не совсем корректно».
Перепечатывая с диктофона всё это я с грустью вспоминал Даниила Хармса — «Вот какие у нас бывают огурцы ... » (с заменой огурцов на демократов).
Сразу же после подавления августовского путча, о котором позже, когда Анатолий Александрович мгновенно переехал в освободившийся Смольный и стал набирать себе кадры в исполнительную власть, мне пришлось еще раз огорчить его своим критическим выступлением на страницах той же ведущей себя неправильно газеты «Вечерний Ленинград». Многие из нас пришли в ужас, увидев, какие кадры — из секретарей ленинградских райкомов КПСС и функционеров ходыревского исполкома Собчак берет к себе в команду. Чего стоило появление на посту Главы Комитета по экономическому развития такого «ястреба» из советского оборонного комплекса, как высокомерный и до крайности авторитарный Георгий Хижа! Эти-то кадры из тотально плановой советской экономики Собчак громогласно называл «подлинными профессионалами»! Я знал, что в любые времена и в государствах с различным политическим строем правящую «элиту», подбираемую под задачи, провозглашаемые новоявленным лидером, государственным или региональным, объявляют незаменимыми профессионалами: этот стереотип всегда успокоительно действует на массы. Сместивший А.А. Собчака его заместитель В.А. Яковлев выиграл выборы 1996 года под тем же лозунгом — «профессионалы вместо политиков». И самый стреляющий пример из новой истории — пришедший 30-го января 1933 года к власти в Германии Адольф Гитлер уже 7-го апреля провел через Рейхстаг Закон «О восстановлении профессионального чиновничества», санкционирующий увольнение со всех государственных постов чиновников, не состоящих в нацистской партии.
Третьего сентября 1991 года в том же «Вечернем Ленинграде» (!) появилась моя статья «Осторожно: «профессионализм»!» Вот несколько выдержек из нее:
Под девизом — дорогу профессионалам — комплектуется сейчас кадровый состав мэрии Ленинграда. Но кто же они, эти загадочные профессионалы, которые равно необходимы и демократическим лидерам, и сторонникам режима диктатуры (Кургинян, Жириновский)? «У нас, как у профессионалов есть взгляд на единое экономическое пространство, на хлеб, на тепло». И еще: «Мы обязаны дать возможность лучше проявлять себя истинным профессионалам. Надо полагаться именно на профессионалов». Первая сентенция принадлежит Валентину Павлову, вторая — Геннадию Янаеву (В.Павлов и Г.Янаев — руководители августовского путча 1991 года, члены ГКЧП). Обе датированы 19 августа 1991 года!
Ясно, что ставка на профессионалов — очередная «кукла», которой равно часто манипулируют и путчисты, и добравшиеся до высот власти исполнительной демократы ... «Профессионалы» — это либо сами руководители, находящиеся нынче у рычагов аппарата, либо те, кто хорошо исполняет прямые распоряжения начальства. Нужные люди ...
Сейчас без работы в нашем городе остаются 2,5-3 тысячи бывших номенклатурных тузов. У этой номенклатуры есть собственность. Только в нашем городе КПСС сдавала помещения в аренду в 50 принадлежащих партии зданиях. Даже в Смольном оказалось ... 20 частных съемщиков. Как вы думаете, не захотят ли наши номенклатурные тузы сохранить под любой вывеской свою собственность? Еще как захотят, только теперь — управляя ею в благовидном облике хозяйственников-профессионалов?
Еще два слова о профессионализме нашей номенклатуры. Не она ли оставила город в таком состоянии, что мы и нынче не знаем, что у нас есть? Ни земельного кадастра, ни инвентаря нежилого фонда и наши управленцы вроде А.С. Утевского или Э.Г. Бурэ поневоле становятся сыщиками-пинкертонами, выведывающими, где и какие площади бережет для своих гешефтов старая управленческая гвардия.
В этой же статье я напрямую призвал к введению запрета на профессии — для недопущения на ответственные управленческие должности лидеров вчерашней партийной номенклатуры (как это сделали в Чехословакии при Вацлаве Гавеле).
Самонадеянность А.А.Собчака крепко аукнулась ему пятью годами позже, когда один из таких подобранных им коммунистов-хозяйственников оттеснил его с должности мэра в 1996 году (В.А. Яковлев).
О роли Ленсовета в противодействии путчистам 19 -22 августа 1991 года уже написано несколько книг, а статей и вовсе не вперечет. Утром 19-го необычно рано (в 7:45) мне позвонил мой коллега по Ленсовету депутат Александр Владимирович Шишлов, уже узнавший о блокировании М.С. Горбачева в Родосе и введении в стране чрезвычайного положения самозваным ГКЧП. Через час я уже был в Мариинском дворце. В 10:00 началось заседание Президиума Ленсовета, где чудеса дипломатии продемонстрировал только что избранный Председателем Ленсовета Александр Николаевич Беляев. Его нарочито флегматичная подача информации, медлительность жестов способствовали ведению дискуссии о безотлагательных действиях в конструктивное русло — он проявил себя как искусный политик. Депутаты, по одному приезжавшие в Мариинский дворец, собирались в Актовом зале и советовались, что предпринять. Я вспомнил, что у меня дома есть Официальный текст Всесоюзного Закона о чрезвычайном положении — в Ленсовете его почему-то не оказалось, и депутат А.В. Шишлов на своей автомашине повез меня за этим документом.
Примечание.
Заседание президиума Ленсовета поначалу вел член президиума И.Ю. Артемьев (как первый по алфавиту). А.Н.Беляев приехал с дачи несколько позже, может быть, к 11 часам. Уже было решено созывать чрезвычайную сессию в тот же день, 19 августа 1991 года, вечером. Где находится и на чьей стороне мэр города А.А.Собчак тоже никто не знал. — П.Ц.
В 14.00 уже открылась чрезвычайная сессия Ленсовета, и я, зачитав нужные места из Закона, убедил депутатов, что Закон не дает оснований и прав путчистам вводить режим чрезвычайного положения в СССР. Тут же стали появляться рабочие варианты решений Ленсовета по текущему моменту.
Именно наша позиция — городских депутатов — послужила камертоном для горожан, подтянувшихся тысячами на Исаакиевскую площадь для круглосуточных дежурств и обороны Дворца от вышедших из-под Сиверской танков. Талантливое художественное описание городских событий этих дней — в романе Ильи Штемлера «Коммерсанты». Сам я двое суток не выходил из Ленсовета, как и десятки депутатов, вошедших в Штаб сопротивления путчу. И здесь, уместно сказать, что в последующие месяцы и даже годы среди депутатов нашлись «мемуаристы», излагающие свои версии путча; некоторые из них вообще находились в эти дни вне Ленсовета, а то и вовсе за пределами Ленинграда. На ближайшей странице я публикую документ — точный список тех лиц, кто действительно был в Мариинском дворце неотлучно и организовывал действия законодательной власти города и самих горожан; нынче — это раритет, пользуясь которым читатель может определиться в доверии к иным «толкователям» этих трагических событий.
Вот выдержка из опубликованных недавно воспоминаний женщины-депутата, чьего имени нет в публикуемом мною списке: «Только позже я поняла, что все это было не более, чем спектакль, поставленный с какой-то тайной целью, как сказал Шекспир.»
Хорош же спектакль, в котором руководители высшего уровня власти стреляются (Б.К.Пуго), вешаются (маршал С.Ф.Ахромеев), выбрасываются из окон высотных зданий (Управляющий делами ЦК КПСС Н.Е.Кручина и один из руководящих функционеров ЦК ВЛКСМ Лисовол). А сколько тех, незнаменитых сограждан, кто до последнего верил в святость коммунистической доктрины и не смог пережить ее позорного краха: назову лишь два имени — это покончившие с собой после провала путча правнучка Н.Г. Чернышевского и замечательная поэтесса Юлия Друнина! Через два года — в трагические октябрьские дни 1993-го, когда озверевшие хасбулатовцы и макашовцы громили Моссовет и Московский телецентр, в отчаянии покончил с собой наш коллега, честнейший депутат Ленсовета-Петросовета Владимир Адушев. Это что — тоже спектакль?
Примечание.
Борис Карлович Пуго, министр внутренних дел СССР, сначала, рано утром, будто бы застрелил собственную жену. Вероятно, чтобы она не досталась варварам-демократам? По поводу гибели маршала Ахромеева… Ведь могли его и удушить. Выбрасывание из окон — странный способ свести счеты с жизнью, когда в аптеках полно ядов. Так погиб и директор Кировского завода, партократ Семененко — упал с балкона отеля в Сочи много позже путча 1991 года. Зачем? Комментаторы и историки отмечают тот факт, что когда это все произошло в 1991 году (а самоубийства следовали одно за другим уже после провала «путча»), многие стали подозревать, что никакие это не самоубийства, а организованные кем-то убийства, целью которых является устранение важных и особо неугодных для кого-то свидетелей. Депутат же Ленсовета Владимир Иванович Адушев повесился в 1993 году, посмотрев, как танки расстреливают Парламент при полном одобрении «Демократической России». — П.Ц.
Дальше были счастливейшие минуты моей жизни: приостановление Президентским Указом 23 августа 1991 года деятельности КПСС на всей территории страны. Затем выдворение обкома из Смольного, низвержение красного флага с флагштоков государственных зданий, создание депутатских групп по проверке чиновников ленинградских гор— и райисполкомов на лояльность ГКЧП. И после этих абсолютно форсмажорных мероприятий 26-го августа на первом же очередном заседании Президиума Ленсовета я вношу проект решения «О возвращении улицам и площадям Ленинграда их исторических названий» с приложением обоснования проекта и перечня объектов переименования.
Выступая на Президиуме, я, в частности, сказал: «Вопрос о возвращении Петербургским улицам их исторических названий «рассматривается» еще с мая 1990-го, но, оказывается, все это время шло формирование топонимической комиссии, «выбивались» штаты, помещения, ставки ... А как же тот самый, со школы нам памятный пепел Клааса, стучащий в сердце? Сколько же времени требуется комиссии, чтобы убрать наконец имена преступных большевиков-комиссаров — Дзержинского, Скороходова, Ракова, Толмачева и многих других со стен старых петербургскиху улиц — Гороховой и Большой Монетной, Итальянской и Караванной? Мы не надеялись дожить до нынешней победы, но мы с детства, наизусть знали, какие имена и названия вернутся на стены наших улиц». И представил список 23-х улиц и проездов, нуждающихся в безотлагательном возвращении им их исторических названий.
Пятого сентября Президиум горсовета вынес решение (№270):
«Постоянной Комиссии Ленсовета по культуре и культурному наследию с привлечением Топонимической комиссии Ленинграда:
— до 30 сентября 1991 г. внести на Президиум Ленсовета предложения о возвращении исторических наименований объектов, расположенных в историческом центре Ленинграда (имя Санкт-Петербург возвращено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 6.09.1991 №1643-1. — П.Ц.);
— до 30 октября 1991 г. внести на Президиум Ленсовета программу возвращения исторических наименований районов, улиц, площадей и других объектов городского подчинения с необходимым научным обоснованием».
Мой список был направлен в обе названных комиссии. В конце сентября я получил Официальное приглашение в Топонимическую комиссию, заседавшую в здании Городской Думы под башней с часами. Ее возглавляла тогда исполкомовская чиновница, уроженка Баку, А.В. Соловьева. Номинальным Председателем Комиссии числился академик А.М. Панченко. Но он почти не посещал ее заседания. Там я встретился с такими «историками», готовыми перекладывать вопросы из-за щеки за щеку, что мне пришлось сразу пустить в ход тяжелую артиллерию моей аргументации. Средневозрастные чиновники пытались уверить меня, что советский период — это наша история, и поэтому все должно оставаться без скоропоспешных изменений. Пришлось напомнить им, что для Германии гитлеровский фашизм — тоже история, но в этой стране не найдется ни одной улицы, магистрали, площади, которые бы носили имена фашистских вождей. Да и в России, привычной к цареубийствам, никто в здравом уме не присвоил бы улицам Петербурга имен Зубовых, Бенигсена, Талызинa (убийцы Павла I) или Алексея Орлова, задушившего Петра III.
«Преступный коммунистический режим, — говорил я, — предстанет перед судом, как в прямом смысле, так и в переносном — перед судом истории. И — поторопитесь, подумайте о своих репутациях, чтобы не пришлось жалко оправдываться ... »
Первого октября члены комиссии утвердили протокол Бюро, где значилось:
«В соответствии с требованием Президиума Санкт-Петербургского Совета Бюро Городской топонимической комиссии рассмотрело 13 названий, предложенных Г.С.Васюточкиным к восстановлению.
После обсуждения исторических обоснований Бюро сочло возможным внести на утверждение Топонимической комиссии Санкт-Петербурга 17 октября 1991 г. следующие названия (и далее шел список из 9 названий)
Однако Бюро считает, что эти названия не являются первоочередными и нарушают комплексность подготовленного Комиссией списка от 19 сентября с.г.
Бюро Комиссии считает недопустимым придавать процессу восстановления исторических названий городских объектов характер политической кампании [ ... ]
Надеемся, что данное обращение Президиума с требованием вернуться к предложениям депутата Г.С. Васюточкина не станет Постоянной практикой волюнтаристского отношения к деятельности Комиссии.
Бюро отмечает, что несмотря на обращение в Комитет по культуре Мэрии, до сих пор не решены вопросы организационно-техническом обеспечения деятельности Топонимической комиссии».
Подпись — А.В. Соловьева.
Последняя фраза вызвала в памяти фрагмент из Достоевского:
«Миру Божьему провалиться или мне чай с баранками в полдень не пить; так я скажу, чтобы чай с баранками мне был завсегда ... » (обеспечение деятельности Комиссии)! В Протоколе указывалась численность присутствовавших членов Бюро (только Бюро!) — 18 человек. Сколько же всего членов входило в Топонимическую комиссию, тянувшую с подготовкой рекомендаций почти полтора года!
В решении упоминалось о 13 внесенных мною названий, но это потому, что еще десять (из моих 23-х) уже более года обсуждались самой комиссией. И вот уже 4 октября Президиум выносит новое (314-е) решение — «О восстановлении исторических названий городских объектов», пунктом 1-м которого провозглашалось:
«Восстановить исторические названия городских объектов согласно приложению».
Приложение содержало уже ... 49 названий (помимо 23-х из предложенных мною исторических названий комиссия, устрашенная твердой позицией новой власти — Ленсовета, — расстаралась добавить еще 26!)
Ленинградские журналисты дружно встретили мой stuпn und drung — кто в штыки, кто иронически. Наталья Одинцова в «Вечернем Петербурге» (номер от 3 октября 1991 г.) в статье «Статуя Свободы на площади Диктатуры» писала: «Победу надо было отпраздновать и немедленно. И уже 26-го на заседании президиума депутат Г.С Васюточкин предложил срочно, не теряя ни дня, переименовать 23 улицы». И далее воспроизводилось мое выступление на президиуме (см.выше).
Явно вышучивая мою инициативу Н.Одинцова писала далее: « ... не слишком ли много появится Графских, Дворянских, Герцогских, Княжеских ... Тогда, до 1917 года названия ведь тоже не просто так давались. Там тоже была идеология, только своя — другая. И потом, что считать историческим названием? Скажем, площадь Декабристов раньше называлась Сенатской, еще раньше — Петровской, а до этого — Исаакиевской. Какое имя считать историческим?»
По иронии судьбы я пишу ЭТИ строки 18 августа 2008 года, в день опубликования в «Санкт-Петербургских ведомостях» Постановления правительства Санкт-Петербурга от 29 июля 2008 года «О возвращении исторического названия пл. Декабристов», где пунктом первым же значится:
«Вернуть площади Декабристов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга историческое название Сенатская пл.
Подпись: В.И. Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга».
Заслуженный дар судьбы бескомпромиссному антикоммунисту, не правда ли?
Читатель, возможно, удивлен: где же повседневная депутатская работа? Не участие в политике, а защита интересов и нужд избирателей округа? Было и это — помочь с получением квартир удалось троим заявителям, а совсем недавно я был остановлен на улице незнакомой женщиной, назвавшей меня по имени-отчеству и сказавшей, что какое-то из моих обращений в Жилищный Комитет возымело действие: когда меня уже не было в законодательном органе, ей дали квартиру.
Письма и звонки в районную администрацию по рутинным эпизодам протечек кровли и засорений канализации.
Вместе с депутатом М.И.Пироговым мы помогли Институту русской литературы РАН (Пушкинский Дом) капитально отремонтировать конференц-зал и водоканализацию в отделе рукописей. Тогда же Институт стал испытывать нехватку места для фондохранилища, и вновь А.А. Собчак активно помешал уже найденному нами с работниками КУГИ варианту; расселенное и долго пустовавшее здание на Мойке, 22, предложенное заместителем М.В. Маневича В.П. Володькиным, мэр приберегал для иностранного инвестора — под пятизвездочный отель, а Пушкинскому Дому щедрым жестом предлагал въехать в Дом Державина на Фонтанке, где законные и полулегальные арендаторы и думать не хотели о прекращении их прав по аренде, полученных неизвестно от кого в самом конце 1980-х годов. На другой вариант — сооружения во дворе Института — здания под фонды с отдельной передвижной финской генераторной подстанцией и модульной котельной Собчак тоже почему-то не соглашался. Сегодня такой дом во дворе Института уже выполняет свои функции фондохранилища, и ездить сотрудникам из здания Таможни Лукини никуда не надо: всё на собственной территории.
В 1992-м году мне довелось придумывать способ оказания финансовой помощи тонущему «Зениту», игравшему тогда под началом Вячеслава Мельникова; деньги были вовремя найдены и перечислены клубу. Но такими результатами мог бы отчитаться, наверное, каждый депутат своего округа; скажу лишь о занятии, которое большинство избирателей совершенно себе не представляет.
Постоянно работающему депутату (а мне, как секретарю Сессий и Малого Совета — в особенности) приходилось ежедневно изучать пухлые комплекты документов: проектов решений, расчетных обоснований к ним, множество цифрового материала и нормативных актов, подкрепляющих очередные выносимые на обсуждение проекты. Накапливалась неизбывная усталость, да и с питанием в 1992-м году после гайдаровского отпуска цен приходилось туговато — до середины мая 1992 года я находился на окладе и работал у себя в Институте, не переходя в штат освобожденных депутатов Совета; выполнял расчеты по своей основной специальности, будучи ответственным исполнителем темы (по итогам этой научной работы я опубликовал статьи в 199З-1999 гг. в сборниках «Геофизической аппаратуры» и «Российском геофизическом журнале») — это была уж третья смена ... А научным сотрудникам в 1990-1992-м пришлось совсем туго — инфляция бушевала, оклады, установленные в начале 1980-х годов не пересматривались. Прибавьте к этому науськивание на депутатов по TV известного телепровокатора из «600 секунд»: присваивают, мол, народные избранники зарубежную гуманитарную помощь... Ни одного из 380 депутатов Ленсовета XXI созыва никому не удалось в этом уличить, как ни старались! Зато по ТV показывали сюжет: крысы, покрывающие своими хвостатыми тушками скалу под Медным всадником. Крысами — по замыслу автора «сюжета» — были мы, депутаты, императором — А.А. Собчак ... Не раз вспоминал я новеллу Марка Твена «Как меня выбирали в губернаторы» и на себе чувствовал, сколько незаслуженной грязи льют ни за что профессионалы пера (а теперь и телекамеры) на неугодное им лицо, находящееся во власти (пусть и небольшой). О такой ли «свободе слова» мечтали мы, диссиденты в 1970-1980-х?
Мои вторжения в политику высокого уровня продолжались.
Сейчас модным признаком хорошего тона стала позиция презрительной отстраненности от политики — это, мол, «грязное дело»: тот же В.А.Яковлев, конкурируя с А.А.Собчаком на выборах мэра Санкт-Петербурга, подчеркивал, что он не политик, а хозяйственник, и что для него не существует разделения на «красных и белых». Люди такого рода, если они честны, остаются в плену ленинского понимания слова «политика». Именно он навязал россиянам — почти на век вперед свою формулу: «Политика — сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой являются проблемы завоевания, удержания и использования политической власти» (В.И. Ленин, ПСС, т.23, с.239).
Однако, в подлинном значении термин «политика» являет собой пучок смыслов, это, прежде всего, «образ действия кого-либо, направленный на достижение чего-либо и определяющий отношение к чему-либо». Так разъясняется этот термин в энциклопедическом словаре «Наследие Эллады» (изд-во «Советская Кубань», Краснодар, 1993.). Да и в «Новой философской энциклопедии» (Москва, «Мысль», 2001) с политикой ассоциируется «любая сфера общественной жизни (труд, быт, СМИ, государство, партии)». Там же утверждается: «Сфера политики не тождественна государственному управлению [ ... ] любая общественная проблема приобретает политический характер, если ее решение прямо или опосредованно связано с проблемой власти, с реализацией тех или иных коренных интересов тех или иных социальных групп и их организаций». И там же: «Политика — наука и искусство жить в обществе». Я же с детских лет ассоциировал себя с определенной социальной группой лиц, противившихся коммунистической идеологии и основанной на ее господстве государственной системе. В ранней юности я нашел нужные мне слова в оправдание своего «бытия в политике» у ... Александра Блока: «Бытъ вне политики» (Левинсон)? — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству расправляться с людьми, как ему угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит, кто-то будет только «с политикой» И вне нашего кругозора и будет поступать как ему угодно. [ ... ] Мы уже знаем, что значит быть вне политики: это значит — стыдливо закрывать глаза на гоголевскую «Переписку с друзьями», на «Дневник писателя» Достоевского, на борьбу А. Григорьева с либералами: на социалистические взрывы у Гейне, Вагнера, Стриндберга [ ... ] Быть вне политики — тот же гуманизм наизнанку». (Александр Блок. Собрание сочинений. Т. 7. Автобиография. Дневники. Запись в Дневнике от 28 марта 1917 г.)
Вот и в Петросовете я не упускал случая внести свой посильный вклад в дело высвобождения страны из-под господства сковавшей Россию мертворожденной идеологии и понуждающей всех жить по ее догмам тоталитарной власти. В декабре 1992 года Марина Евгеньевна Салье, разрывавшаяся между двумя своими «депутатствами» — верховным (в Москве) и петербургским — и успевшая нажить себе немало недоброжелателей в обеих столицах, предложила Петросовету провести научную конференцию на тему «Учредительное Собрание — выход из конституционного тупика». В Верховном Совете РСФСР третий год шли дискуссии по проектам Новой Российской Конституции, но хасбулатовскому большинству кардинальное ее обновление было невыгодно — поправки в Основной Закон РСФСР, вносимые в Москве чуть ли не ежеквартально, превращали Конституцию в лоскутное одеяло, документ сиюминутного пользования, что лишало депутатов возможности последовательно принять законодательно оформленный курс на расставание с социализмом. На заседании Малого совета речь Салье встретили прохладно, и последним перед голосованием по проекту решения я выступил совершенно экспромтом. Считая идею Учредительного Собрания малопродуктивной — особенно в годы гайдаровской шоковой терапии, я построил свое выступление на доказательстве от противного: давайте, мол, проясним — на хорошем научном уровне, почему Учредительное Собрание сегодня бесперспективная политическая затея. Прием сработал — против ожидания противников конференции я не стал очередным уговаривающим и заинтриговал их возможностью аргументировано и под стенограмму сокрушить нелюбезную им «учредилку». Минимумом достаточных для принятия решения голосов (18) проект неожиданно прошел! В Решении (№404 от 16.12.92) появилась резолюция:
«— Провести 17-18 января 1993 г. в Санкт-Петербурге общественную научно-практическую конференцию по вопросам развития конституционного процесса в России, возможности и целесообразности созыва Всероссийского учредительного собрания».
Тут же расцветшая М.Е. Салье попросила меня стать секретарем Оргкомитета конференции — еще одна сверхзабота ... Междугородние звонки, рассылка сотен приглашений, и в январе к нам приезжают не только москвичи — Гавриил Попов, Лариса Пияшева, Елена Боннэр, Ирина Хакамада, но и специалисты-историки из Красноярска. Иркутска, Йошкар-Олы ... Титульный доклад о конституционном процессе в России делает наш академик РАН, историк Б.В.Ананьич, с пленарными докладами выступают А.А. Собчак и А.Н. Беляев. Во второй день нашлось время и для моего доклада: я рассказал о бесславном скатывании доигрывавших свои роли на политической сцене депутатов УС на ... всё те же социалистические позиции. Неожиданно, всех нас, выступавших по теме конференции, зло и запальчиво критиковали жириновцы, еще искавшие свою политическую нишу и грозившие, совершенно некстати, всем и каждому кознями «мировой закулисы». Капитан 2-го ранга М. Иванов ласково пообещал ... повесить меня на Александровской колонне (???). Узнав об этой инициативе Петросовета, обеспокоенный Р.И. Хасбулатов (тогда Председатель Верховного Совета РСФСР) запретил нам проводить конференцию в Таврическом Дворце, где 5 января 1918 года начало и закончило свою деятельность законно избранное Учредительное Собрание России. Но и в Мариинском дворце всем хватило места. В ходе ожесточенных прений впервые возникла мысль об особом — внепарламентском — органе для выработки и принятия новой Конституции. Для издания сборника докладов средств, увы, не нашлось — предусмотрительно сделанная ксерокопия материалов конференции хранится у меня как историческая реликвия. В развитие нашей инициативы второго февраля в «Известиях» появилось обращение группы государственных деятелей, политиков и интеллигенции с призывом созвать Учредительное собрание; тогда же была создана правительственная комиссия по проведению референдума с целью выхода из конституционного тупика. Но VII Съезд народных депутатов РСФСР, работавший в Москве с 10-го по 15-е марта, ввел мораторий на проведение референдума.
Президент и Съезд сошлись друг против друга как две непримиримые рати на Куликовом поле. Гражданская война придвинулась вплотную. Двадцать первого марта экстренно созванный Малый совет Петросовета после жарких дебатов склонился к тому, чтобы в публичном обращении к петербуржцам дать свою оценку политическому моменту. В процессе внесения поправок в принятый за основу текст я предложил (см. стенограмму) дополнить ключевой для всего обращения абзац — о необходимости « ... начать подготовку новых выборов всех представителей обеих ветвей власти на основе новой Конституции» словами «принятой Конституционным собранием». Эта поправка набрала — в самый обрез — те же минимально достаточные 18 голосов и вошла в текст Обращения. А мнение Петросовета тогда значило для страны больше, чем мнение Моссовета! Слова о Конституционном собрании легально прозвучали именно тогда, в большом зале Мариинского дворца. Складывался прецедент — изъятия работы над новой Конституцией из ведения Верховного Совета РСФСР в иной, неподвластный Хасбулатову и Ко общественный орган!
29 апреля, одержав победу на референдуме (трагически памятные четыре вопроса, правильным ответом на которые было: «да», «да», «нет», «да»), Президент внес на всенародное обсуждение проект новой Конституции, а 5 июня в Москве начало свою работу Конституционное совещание! Это был громадный шаг к победе над прокоммунистическим большинством корпуса народных депутатов РСФСР. Одну из комиссий Совещания возглавил А.А. Собчак, являвшийся членом Верховного Совета (СССР! В 1992 году уже не было этой страны и этого Верховного Совета — П.Ц.), и здесь его роль главного и последовательного оппонента коммунистам трудно переоценить. А чуть раньше в дни празднования 290-летия Санкт-Петербурга по нашему приглашению в Петросовет вновь съехались представители из регионов — спикеры Советов и мэры — из 40 субъектов федерации. Мы не упустили и эту возможность агитации за «конституцию без социализма».
Остается вспомнить о последней схватке с партократами, контролировавшими корпус народных депутатов РСФСР. Указ Президеита Б.Н. Ельцина (№1400) от 21 сентября 1993 года о роспуске российского парламента поляризовал политические силы на два лагеря — «за» и «против» Ельцина.
Колеблющимся народным депутатам РСФСР, да и нашим депутатам Петросовета ситуация, требовавшая от них однозначного выбора, оказалась крайне неприятной. Мало кто всерьез стремился тогда к восстановлению административно-командной системы и желал возвращения к власти структур КПСС, успевшей переменить название. Но и ставить на кон свое депутатское благополучие — статус, знакомства, большую или меньшую интегрированность во власть, да и немалую по тем голодным временам зарплату за работу в представительных органах на постоянной основе. Поэтому шли непрерывные совещания, формировались временные комитеты, выпускались скоропалительные «резиновые» заявления — и всё это с надеждой на «авось»: какая-нибудь из враждующих сторон да пойдет на уступки ради сохранения «status quo». В Малом совете было почти полное единодушие: не подчиняться Указу Президента от 21-го сентября, считать его неконституционным. Осудить обе ветви государственной власти. Провести в кратчайший срок новые выборы. На завершающее дебаты заседание было вынесено два примерно равноценных проекта, разнящихся разве лишь расплывчатыми концовками, призывавшими к поискам взаимопонимания, встречам глав субъектов Федерации и т.п. Отторжение президентского Указа в обоих проектах звучало единообразно. И вот — открытое поименное голосование. Председательствующие приглашает членов Малого совета определиться по обоим проектам. Председательствующий — А.Н. Беляев и его заместитель — Б.А. Моисеев обнаруживают свои позиции первыми; остальных вызывают к микрофону в алфавитном порядке.
Примечание.
Александр Беляев отказался вести это драматическое и весьма продолжительное заседание Малого совета, хотя он присутствовал в зале! Все хорошо сознавали, что пришедшие к власти в августе 1991 года люди, поубивавшие тогда своих влиятельных недругов, не постесняются раздавить и таких мошек, как непокорные депутаты Петросовета. Вёл заседание Борис Моисеев, заместитель председателя Петросовета, демократ-«яблочник», который планировал в ночь убыть в столицу по партийным делам. Осуществлявший выпуск решения о неподчинении Б.Ельцину Михаил Пирогов едва успел подвезти на Московский вокзал текст, чтобы председательствовавший Моисеев поставил свою закорючку. Потом он же, Пирогов, отправил это решение телефаксом в петербургские газеты. А я помогал Пирогову. Мы с ним дружили. — П.Ц.
Далее — фрагмент стенограммы, отражающей выбор каждого из присутствующих тогда членов Малого совета.
| По проекту С.Н.Удалова |
По проекту И.Ю.Артемьева |
|
| А.Н. Беляев (председатель Петросовета) |
не участвует в голосовании | |
| Б.А. Моисеев (заместитель председателя Петросовета) |
за | за |
| М.И. Амосов | за | за |
| И.Ю. Артемьев | за | за |
| С.А. Басов | за | за |
| А.А. Белкин | за | за |
| Г.С. Васюточкин | воздержался | против |
| Г.Г. Гомзиков | за | за |
| М.Б. Горный | за | воздержался |
| Б.С. Губанов | за | за |
| А.К. Егоров | воздержался | за |
| С.Н. Егоров | за | за |
| Н.Н. Журавский | за | за |
| Г.А. Кравченко | за | за |
| Н.И. Пашина | за | за |
| М.И. Пирогов | за | за |
| А.В. Прытков | за | за |
| С.А. Рябов | за | за |
| В.К. Смирнов | за | за |
| Н.Н. Смирнов | за | за |
| А.Я. Ткаченко | против | против |
| А.К. Трубин | за | за |
| С.Н. Удалов | за | за |
| П.В. Цыпленков | за | за |
| А.В. Шишлов | за | за |
| В.В. Штагер | за | за |
| В.Г. Щербаков | за | за |
Затем был созыв Сессии, бурные схватки вокруг принятых Малым советом решений, и фракция Демократической России (членом которой я формально не был) поручает нам с покойным Ю.П.Гладковым (Юрий Гладков умер в 2008 году. — П.Ц.) выработать и опубликовать от имени депутатов демороссов обращения к Президенту Б.Н.Ельцину и мэру А.А.Собчаку.
4-го октября (после стрельбы по Белому Дому и окончательного роспуска парламента) А.А. Собчак пригласил нас, шестерых демороссов к себе в Смольный, сказал несколько тёплых слов по поводу нашей ясно заявленной гражданской позиции и ... пригласил составить ему компанию в поездке на хоккейный матч с участием нашего СКА в «Юбилейный». Мы поблагодарили, но на хоккей не поехали.
В декабре Петросовет Президентским Указом был распущен. Для многих моих коллег это было трагедией — чего не скажу о себе. Советская форма представительной власти, по-моему, не имела шансов на существование в новой, определенно несоветской системе координат. И утром следующего после роспуска Петросовета дня радиожурналист Ольга Смирнова попросила меня выступить по городскому радио с оценкой произошедшего. В лагере демократов царил траур, и я до сих пор удивляюсь ее уверенности в собственном выборе. Ведь выпуская меня в эфир без предварительной цензуры (ей было неведомо, что я собираясь говорить) она рисковала карьерой, я же — ничем. В пятнадцатиминутном выступлении я наспех подытожил деятельность Ленсовета-Петросовета, вспомнил позитив, не оспорил его роспуска и не клеймил «авторитарных правителей — Б.Н. Ельцина и А.А. Собчака, а успокаивал горожан словами о предстоящей избирательной компании по выборам в новый орган представительной власти, и призывал их поддержать тех, кто войдет в команду нашего Председателя Петросовета — А.Н. Беляева. В ходе этого монолога я совершенно воодушевился и закончил выступление на высокой ноте — продекламировал концовку самого любимого моего стихотворения Валерия Брюсова:
Довольно, довольно! Я вас покидаю! Берите и сны, и слова!
Я к новому раю спешу, убегаю, мечта неизменно жива!
Я создал и отдал, и поднял я молот, чтоб снова сначала ковать.
Я счастлив и силен, свободен и молод, творю, чтобы кинуть опять!
Эта пламенная проповедь, кажется, удалась, и одним из ее следствий стал ... телефонный звонок Александра Николаевича Беляева, предложившего мне войти в его команду — он готовился выдвинуть свою кандидатуру в Совет Федерации — Верхнюю Палату нового Федерального Собрания. И вскоре был избран его членом.
Ситуация отчасти повторилась в марте 2000 года, когда главный редактор «Вечернего Петербурга» В.Г. Гронский обратился ко мне с неожиданной просьбой-пожеланием: в последний, дозволенный для агитации перед президентскими выборами день выступить в газете со статьей по кандидатуре В.В. Путина. Впору было поперхнуться от удивления: отпетому антикоммунисту предлагают carte-blanche по кандидатуре подполковника КГБ! Гронский дал слово, что при любом содержании текста его публикация гарантируется. Статья была написана за ночь и вышла на первой полосе «Вечёрки» под заголовком «Еще ничего не было решено» (24.03.2000).
А за год до этого, в декабре 1998-го мне домой позвонил федеральный чиновник аппарата Администрации Президента РФ В.Е. Михайлов и — буднично так — сообщил, что мне присуждается государственная премия; при этом он огласил формулировку присуждения и поинтересовался, нет ли у меня по ней возражений.
Мое удивление трудно передать. Через неделю в Федеральном Доме на углу Тверской улицы и Суворовского проспекта эту премию мне вручил Полномочный представитель Президента РФ в Санкт-Петербурге С.А. Цыпляев, двумя другими лауреатами этой же премии стали журналисты М.С. Кореневский и И.В. Иванов.
Главы из книги Ленсовет-XXI 35 лет спустя
- М.И.Амосов. Выборы Ленсовета XXI созыва
- С.А.Басов. Флаг и гимн города утвердили мы.
- А.Н.Беляев. Деятельность Ленсовета и ее историческое значение
- С.Н.Егоров. 20 лет развития парламентаризма в Санкт-Петербурге (1990-2010)
- А.Р.Моторин. Вместо народного контроля
- А.П.Сазанов, Н.Н.Смирнов, Г.Б.Трусканов, П.В.Цыплёнков. Тридцать лет без Ленсовета.
- П.В.Цыплёнков. Освободить человека
- П.В.Цыплёнков. Избранные места из воспоминаний друзей
- Д.Е.Вюнш-Арский и др. Анатолий Собчак не возвращал имя Санкт-Петербургу
- Воспоминания о Ленсовете XXI созыва. (Анатолий Собчак, Владимир Жаров, Виктор Смирнов и другие).
Возвратиться на первую страницу сайта. Return to the first page of the site.



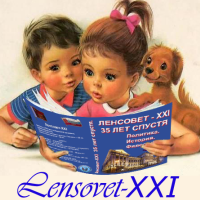



Поделиться с друзьями: